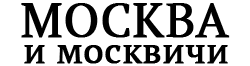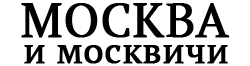Москва в живописи второй половины XIX – начала XX века
В картине И. К. Айвазовского „Вид на Москву с Воробьевых гор” (1848) город, возникая вдали как прекрасный мираж, замыкает собой и эмоционально завершает пейзаж, безмятежно идиллический по настроению. Покой и гармония ощущаются в мерном чередовании планов — за холмом, увенчанным сосной, видны изгибы светлой Москвы-реки с лодками, неторопливо скользящими по ее зеркальной поверхности, дальше открывается простор луга, доходящего до Новодевичьего монастыря. На всем пространстве пейзажа лежит тень, тем ослепительнее сияют на горизонте громады белокаменной Москвы, купола церквей, которыми она издавна славилась. Фигуры на первом плане, одетые в народные платья, призваны показать не столько повседневную жизнь Воробьевых гор, уже в те времена служивших местом прогулок москвичей, сколько раскрыть национальную романтику содержания образа. Вид Москвы с Воробьевых гор неизменно рождает в сознании зрителя возвышенные и светлые патриотические чувства, навевает воспоминания о героическом прошлом русского народа, мечту о подвиге во имя родины. Здесь, на Воробьевых горах, юные Герцен и Огарев, „обнявшись, присягнули виду Москвы” пожертвовать жизнью „на избранную ими борьбу”. Герцен называл Воробьевы горы „святыми холмами” и писал о них: „Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву.
Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга.
Эту гору обогнул Наполеон со своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление”.
Далевой вид, открывающийся с этой возвышенности, позволяет художнику отвлечься от частностей, охватить сразу „всю Москву”, воспринять значительность и красоту единого массива города, неразрывно слитого с русской природой.
Запоздалый романтический призыв покинуть душный город и уединиться на лоне природы ощутим в картине М.И.Бочарова „Вид Москвы с Воробьевых гор” (1853). На первом плане бедная хижина словно зовет к созерцанию и чистым радостям. За нею вдоль излучины Москвы-реки из зелени приветливо выглядывают деревни, монастыри, барские усадьбы. Лишь правдивость в изображении неприкрытой нищеты хижины говорит о том, что середина XIX века успела внести свои коррективы в пасторально-идиллический идеал сентиментализма.
Внимание приверженцев романтизма продолжает привлекать древняя архитектура как свидетель великих исторических событий, в особенности Московский Кремль. Духовную наполненность и значительность старинных архитектурных памятников им помогает раскрыть небудничное состояние природы — лунный свет, закаты и восходы солнца, клубящиеся облака, создающие драматические эффекты освещения.
Содержание картины М.И.Бочарова „Вид на Московский Кремль и Замоскворечье ночью” (1849) может быть понято через литературный образ, созданный писателем того времени М.Н.Загоскиным: „Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую летнюю ночь, когда вечерняя заря тухнет на западе, а ночная красавица, полная луна, выплывая из облаков, обливает своим кротким светом и небеса, и всю землю![ . . . ] Эти высокие стены, древние башни, царские терема не безмолвны, — они говорят вам о былом, они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших”.
Отголоски романтического восприятия Москвы сохраняются еще в ранних работах одного из основоположников русского реалистического пейзажа А. К. Саврасова. Таков „Вид на Кремль в ненастную погоду” (1851), пронизанный движением, беспокойный, тревожный. Первый план — низкий берег реки, роща, шалаш. Сияющий на дальнем плане Кремль словно бы на-делен таинственной способностью излучать свет, преодолевающий мглу и ненастье. Тревожная патетика образа усиливается зрелищем величественного перемещения тяжелых грозовых туч. В более поздних изображениях Москвы Саврасов вводит в русскую живопись иной образ города. Поиски исключительного, возвышенного, идеального уступают место вниманию к скромной повседневности. На смену идилличности и патетике приходит задушевность лирического чувства, подчас омраченного нотами гражданской скорби. Памятники архитектуры, эти неповторимые приметы города, без которых пейзаж утратил бы свою московскую окраску, приобретают другой смысл. Их гармонией или контрастом с убожеством задворков определяется со-держание образа Москвы у Саврасова. В выборе намеренно непарадной точки зрения на город обнаруживается приверженность к правде, понятой не только как верность натуре, но и с точки зрения социальной.
Гигантский памятник Петровской эпохи в картине Саврасова „Сухарева башня” (1872) высится над крышами жалких деревянных избушек, почерневших от времени, величественно и нелепо, как вельможа среди нищих крестьян. Москва здесь — воистину „большая деревня”, как было принято ее называть. Все еще не изжита художником отвлеченная идилличность. Она ощущается в изображении розового зимнего заката, преображающего непритязательный и бедный мир. Но здесь и кончается близость Саврасова к романтикам. В восприятии природы преобладает правда. Тонко прочувствовано художником тоскливое очарование, безлюдье и тишина зимних московских сумерек, нарушаемая только гомоном птичьих стай. Искусно написана меркнущая сизо-розовая пелена, окутывающая землю. Косые лучи неяркого зимнего солнца выхватывают из мглы лишь дом на втором плане, золотят герб на вершине башни. Сопоставление величественного исторического памятника и жалкой современной застройки придает образу оттенок метафоры. Тоска, которой он пронизан, ассоциируется с чувством гражданской скорби, наполняющим демо-кратическую литературу второй половины XIX века. В одной из лучших картин Саврасова „Вид на Московский Кремль. Весна”(1873) уже нет следов идеали-зации. Мотив, избранный художником, намеренно неэффектен. Кремль и Малый каменный мост виднеются вдали, а на первом плане бурый пригорок, на который выходит задняя стена деревянного сарая, забор, голые растрепанные кусты. Мягкий солнечный свет, растворяя формы и краски Кремля, лишает его официальности, сообщает ему поэтическую прелесть, приобщает к празднику весеннего пробуждения природы — ледохода на Москве-реке.
Нарастание реалистических и демократических тенденций в русской живописи 1850—1860-х годов сказывается и на изображении города. Видовой архитектурный пейзаж все более уступает место бытовому жанру. Чисто пейзажный образ Москвы тем не менее встречается в некоторых произведениях художников той поры. Здесь следует отметить этюды А. И. Куинджи („Вид на Кремль со стороны Замоскворечья”, „Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного”, оба 1882 г.), отличающиеся свойственными манере художника резкими цветовыми и светотеневыми контрастами, сообщающими образу романтическую взволнованность.
В городских бытовых жанрах архитектура играет роль фона, обычно безразличного к происходящему. Идеализация народа сменяется поисками острой, подчас гротескной выразительности в обрисовке социальных типов, что иногда сближает живопись с карикатурой, бытующей в журнальной графике. Такова, например, картина В.Е. Астрахова „Обжорный ряд у Китайгородской стены в Москве” (1856). Лица его героев непривлекательны, повадки грубы, одежды потрепаны. Это в высшей степени характерные для данного места города, для так называемой „обжорки”, типы, нравы, эпизоды. Воспоминания современника почти буквально совпадают с тем, что изображено на картине: „Тут же на площади находилась „обжорка” — съестные лавочки, кормившие ломовых извозчиков и весь толкучий люд по самой дешевой цене [ . . . ] Бабы-торговки сидели на крышках больших глиняных горшков, „корчаг”, закутанных тряпками, и продавали из них щи и горячие рубцы, у стены приютились „холодные сапожники”, подкидывающие подметки и набивающие каблуки большими гвоздями, которые назывались „генералами”, заказчики стояли босые тут же около сапожника, дожидаясь исполнения заказа.
Сновали блинщики, пирожники, продавая свой товар „с пылу-с жару”. Торговцы старыми ломаными медными и железными вещами раскладывали свой товар прямо на мостовой”.
Мотив рынка, толкучки, торговых рядов повторяется неоднократно в русской живописи второй половины XIX — начала XX века, но характер его интерпретации меняется в зависимости от индивидуальности художника и духа времени.
П.П.Верещагина в картине „Толкучий рынок в Москве” (1868) занимает зрелище копошащейся в тесном пространстве массы людей, отдельные социальные типы. Здесь сборщик пожертвований на храм с блюдом для подаяний, сумой и мешком с крестом, старьевщик, один из тех, кто по утрам обходил дворы, крича: „Старье берем!” или „Старого старья продавать!” Играют уличные музыканты. Их остановились послушать зеваки: босоногий мальчишка, щеголеватый мужик в цилиндре-гречневике, баба в платочке — обыкновенный московский люд. Суховато и документально точно написана архитектура: Проломные ворота с иконой, церковь. Легко читаются на вывесках названия лавок и имена их владельцев: „Торговля купца Суханова”, „Белкин”, „Иван Иванов”. Продается товар дешевый, так называемый „русский”, — мешковато сшитые для простого народа поддевки, шаровары, пальто. Можно купить и головные уборы — шляпы различных фасонов намалеваны доморощенным художником на вывеске „Ивана Иванова”.
Астрахов и Верещагин изображают в своих картинах один и тот же уголок города — тесную площадь, ограниченную Китайгородской стеной, к Никольской башне которой примыкает древняя церковь Владимирской богоматери (1692—1694). На картине Верещагина изображены также Проломные ворота, пробитые в XIX веке. Они носили название Владимирских. Индивидуальное восприятие натуры каждым из художников, а также промежуток в двенадцать лет, разделяющий картины, определяют столь ощутимое различие в трактовке архитектуры и жизни улицы. В работе Верещагина площадь выглядит более уютно и щеголевато — это отражение тех перемен, которые претерпевают Китайгородские улицы и площади во второй половине XIX века.
Начиная с 1870-х годов этот торговый и финансовый центр, „московское Сити”, воплощает новый дух города — дух буржуазного предпринимательства, наживы. Недаром свой роман о быте пореформенной Москвы П.Д.Боборыкин называет „Китай-город”. Розничная торговля уходит отсюда, заменяясь крупной оптовой. Жилые дома вытесняются построенными в европейском вкусе банками, конторами, торговыми рядами, зданиями торгово-промышленных обществ и компаний,. Старые монастырские подворья перестраиваются в благоустроенные современные гостиницы, сверкающие щеголеватыми позолоченными вывесками.
Бытовая живопись передвижников 1860—1870-х годов с ее стремлением вскрывать социальные язвы действительности почти не интересуется знаменитыми или приятными видами Москвы, но обнажает изнанку города — грязные кабаки, мрачные остроги, пересыльные тюрьмы, ночлежки, родильные приюты, смрадные „углы”. В силу того, что художника теперь больше привлекает социально типическое, чем единичное и исключительное, в картинах подчас утрачивается московская характерность пейзажа, сменяясь, так сказать, российской вообще. Впрочем, памятники архитектуры иногда возникают в бытовых жанрах. Драматические события картины В.Г.Перова „Утопленница” (1867) разворачиваются на фоне Москвы-реки и окутанных туманом соборов и башен Кремля, а действие его же полотна „Тройка. Ученики мастеровые везут воду” (1866) — на Рождественском бульваре у стен Рождественского монастыря.
У Перова городской фон утрачивает безучастность к происходящему, становится неотъемлемым компонентом образа, определяющим его настроение. В „Тройке” немыми свидетелями непосильного труда детей оказываются стены Рождественского монастыря. Их уступы вторят движению „тройки”, с трудом втаскивающей на обледенелую горку бочку с водой. Икона, освещенная красноватым светом лампады, в контексте образа — символ христианского милосердия — подчеркивает безразличие мира к страданиям детей.
На тему Москвы Перовым создан один из наиболее выразительных и глубоких пейзажей в искусстве второй половины XIX века -„Последний кабак у заставы” (1868). Не нужно уточнять, какая из московских застав изображена здесь. Для художника важнее не столько приметы, свойственные данному месту, сколько то общее, что присуще всем московским и российским городским заставам в целом. Это столбы с двуглавыми орлами, гербом им-перии. Это низкие и невзрачные строения городской окраины с непременным кабаком среди них. В тревожном контрасте зимних сумерек, уже спустившихся на город, и тоскливого желтого света заходящего солнца, окрашивающего небо и поля за заставой, контрасте, определяющем колористический строй картины, — ощущение трагической безысходности. Тускло светятся занесенные снегом окна кабака с печальным названием „Разставанье”. За заставой угадывается бескрайность заснеженных российских просторов, протяженность пути, который предстоит женщине, мерзнущей в санях. Художник сумел коснуться в своей работе многих тем, волнующих русское общество того времени. Здесь и намек на социальную критику в сопоставлении кабака и герба российской империи, и лирический мотив дальней дороги, столь любимый и народной песней, и русской литературой за его ассоциативную многоплановость.
Повседневную жизнь московской улицы 1870 — 1880-х годов наиболее полно, живо и ярко показывает в своих жанровых работах В.Е.Маковский. Он создает богатейшую галерею типических образов москвичей разных социальных сословий. Здесь мещане, купцы, отставные солдаты, бездомные бродяги, мастеровые, странствующие монахи, запойные пьяницы и в изобилье просто московские чудаки. В каждой из картин Маковский как талантливый режиссер создает подобие театральной мизансцены, где герои, взаимодействуя друг с другом, обнаруживают свое место в обществе и обусловленные им поведение и характер. Меткости социальных характеристик соответствует точность психологических.
Начиная с 1870-х годов этот торговый и финансовый центр, „московское Сити”, воплощает новый дух города — дух буржуазного предпринимательства, наживы. Недаром свой роман о быте пореформенной Москвы П.Д.Боборыкин называет „Китай-город”. Розничная торговля уходит отсюда, заменяясь крупной оптовой. Жилые дома вытесняются построенными в европейском вкусе банками, конторами, торговыми рядами, зданиями торгово-промышленных обществ и компаний,. Старые монастырские подворья перестраиваются в благоустроенные современные гостиницы, сверкающие щеголеватыми позолоченными вывесками.
Бытовая живопись передвижников 1860—1870-х годов с ее стремлением вскрывать социальные язвы действительности почти не интересуется знаменитыми или приятными видами Москвы, но обнажает изнанку города — грязные кабаки, мрачные остроги, пересыльные тюрьмы, ночлежки, родильные приюты, смрадные „углы”. В силу того, что художника теперь больше привлекает социально типическое, чем единичное и исключительное, в картинах подчас утрачивается московская характерность пейзажа, сменяясь, так сказать, российской вообще. Впрочем, памятники архитектуры иногда возникают в бытовых жанрах. Драматические события картины В.Г.Перова „Утопленница” (1867) разворачиваются на фоне Москвы-реки и окутанных туманом соборов и башен Кремля, а действие его же полотна „Тройка. Ученики мастеровые везут воду” (1866) — на Рождественском бульваре у стен Рождественского монастыря.
У Перова городской фон утрачивает безучастность к происходящему, становится неотъемлемым компонентом образа, определяющим его настроение. В „Тройке” немыми свидетелями непосильного труда детей оказываются стены Рождественского монастыря. Их уступы вторят движению „тройки”, с трудом втаскивающей на обледенелую горку бочку с водой. Икона, освещенная красноватым светом лампады, в контексте образа — символ христианского милосердия — подчеркивает безразличие мира к страданиям детей.
На тему Москвы Перовым создан один из наиболее выразительных и глубоких пейзажей в искусстве второй половины XIX века -„Последний кабак у заставы” (1868). Не нужно уточнять, какая из московских застав изображена здесь. Для художника важнее не столько приметы, свойственные данному месту, сколько то общее, что присуще всем московским и российским городским заставам в целом. Это столбы с двуглавыми орлами, гербом им-перии. Это низкие и невзрачные строения городской окраины с непременным кабаком среди них. В тревожном контрасте зимних сумерек, уже спустившихся на город, и тоскливого желтого света заходящего солнца, окрашивающего небо и поля за заставой, контрасте, определяющем колористический строй картины, — ощущение трагической безысходности. Тускло светятся занесенные снегом окна кабака с печальным названием „Разставанье”. За заставой угадывается бескрайность заснеженных российских просторов, протяженность пути, который предстоит женщине, мерзнущей в санях. Художник сумел коснуться в своей работе многих тем, волнующих русское общество того времени. Здесь и намек на социальную критику в сопоставлении кабака и герба российской империи, и лирический мотив дальней дороги, столь любимый и народной песней, и русской литературой за его ассоциативную многоплановость.
Повседневную жизнь московской улицы 1870 — 1880-х годов наиболее полно, живо и ярко показывает в своих жанровых работах В.Е.Маковский. Он создает богатейшую галерею типических образов москвичей разных социальных сословий. Здесь мещане, купцы, отставные солдаты, бездомные бродяги, мастеровые, странствующие монахи, запойные пьяницы и в изобилье просто московские чудаки. В каждой из картин Маковский как талантливый режиссер создает подобие театральной мизансцены, где герои, взаимодействуя друг с другом, обнаруживают свое место в обществе и обусловленные им поведение и характер. Меткости социальных характеристик соответствует точность психологических.
Представление о московских жанрах Маковского дают этюды к картине „Толкучий рынок в Москве” („В полдень”, „Продавец кваса”, оба 1879 г.), работа „Ожидание. У острога” (1875). Вершина творчества художника — картина „На бульваре” (1886 — 1887). Это произведение характеризуют тонкость цветового решения и мастерство композиции. Художник сумел показать поэтическую прелесть московской осени. Редкие желтые листья на молодых деревцах не заслоняют дали. В рассеянном свете пасмурного дня мягко сияют мокрые крыши невысоких домов, расплывается силуэт церквушки. Прозрачные и легкие валеры пейзажа оттенены сочной и контрастной живописью первого плана. Перекличка красного цвета в одеждах пары, сидящей на скамье, заставляет воспринимать ее как единое целое, но не мешает почувствовать душевную разобщенность людей. Это пропасть между вновь испеченным горожанином, недавним выходцем из деревни, и его деревенским прошлым, о котором напоминает приехавшая в гости жена. „Подобные пары, — писал художник А.А.Киселев, — можно наблюдать ежедневно на бульварах Москвы, примыкающих к Трубе, Сретенке и Мясницкой и переполненных рабочим и фабричным людом, почему наша так называемая порядочная публика не любит избирать эти бульвары местом своих прогулок”.
В конце 1870-х — начале 1880-х годов на смену критическим устремлениям в русском искусстве приходят поиски национального идеала. В связи с этим вновь возникает интерес к древней столице. На материале города создается „Московский дворик” В.Д.Поленова (1878). Москва становится источником вдохновения для В. И. Сурикова, самого значительного русского исторического живописца второй половины XIX века.
Для Сурикова Москва была тем местом, где он ощутил свое призвание: „Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, — я сразу стал на путь”.
Первые работы, посвященные городу, — это акварельные этюды, изображающие Кремль („Вид на Кремль зимой”).
Художник благоговейно переносит на бумагу формы древней архитектуры, не упуская ее деталей. Он обнаруживает понимание законов акварели, техники, которой пренебрегали во второй половине XIX века, на-слаждается ее прозрачностью, хрупкостью. Хотя в этих работах нет еще поэтического преображения натуры, которое возникает в его исторических полотнах.
Москва была для художника не только центром русской народной жизни, но еще и „городом предания”, как когда-то назвал ее В.Г.Белинский. Сама архитектура внятным художнику языком могла рассказать здесь о русской истории не меньше, чем летописи, книги, архивы. „Я на памятники как на живых людей смотрел, — расспрашивал их: „Вы видели, вы слышали, — вы свидетели”. Только они не словами говорят. Я вот Вам в пример скажу: верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано [ . . . ] А памятники все сами видели: и царей в одеждах и царевен — живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги”, — эти слова Сурикова записал М.А.Волошин.
В историческом эпосе Сурикова — „Утро стрелецкой казни” (1881) и „Боярыня Морозова” (1887) — Москва впервые в русской живописи предстает как величественная арена русской истории, свидетельница борьбы и страданий народа. Собор Василия Блаженного, который представлялся художнику кровавым, лобное место, кремлевские стены в картине „Утро стрелецкой казни” становятся реалиями, позволяющими ощутить жизненную и историческую достоверность происходящей здесь народной драмы. В „Боярыне Морозо-вой”художник творит обобщенный образ города, тяготеющий к сказочно-песенному его претворению. Пленэрная живопись позволяет показать богатство красок русской зимы. Он открывает красоту национальной архитектуры, в которой живет душа народа.
Суриков неоднократно пишет Москву. В его маленьких этюдах, так же как в монументальных полотнах, дышит мощь темперамента, волевой напор, без показной лихости и размашистости кисти. Эта мощь органически соединяется с изысканностью колористического решения и богатством фактуры.
Художник особенно любит изображать русскую зиму. В его восприятии она почти всегда свежая, ядреная, искристая, полная бодрости, со своим особым светом, с деревьями, живописно чернеющими на чистом снегу. Скованные холодом, они не мертвы, движение кисти выявляет их скрытую жизнь. Синий воздух сквозит между ветвями („Зубовский бульвар зимой”, 1880-е гг.).
Поздний этюд Сурикова „Вид на Москву из окна квартиры художника” (1913) по живописи стоит на уровне передовых исканий начала XX века — формы обобщены и выразительны, пространственные отношения выявлены цветом. Сочность лепки воспринимается здесь как компонент образа города — его жизненной силы, крепости. Кубы домов, прорисованные по граням синим цветом, теснятся в небольшом пространстве. В нагромождении крыш, стен, колоколен, старинных палат есть московская уютная хаотичность, издавна про-тивопоставлявшаяся регламентированности петербургской застройки. Укрывающая город сизая дымка заставляет перламутрово светиться розовую стену, многоэтажные дома, пестрые кремлевские терема. Розоватые отсветы лежат на снежных шапках, укрывающих крыши.
Поленову так же, как и Сурикову, в жизненно убедительном образе удается выразить душу Москвы. Но она открывается ему не в героике исторических преданий, хранимых древними стенами, а в патриархальной при-ветливости московских особняков и двориков. Художник находит свою натуру на Арбате, в Трубниковском переулке, где поселяется в конце 1870-х годов. Для многих этот давно обжитый район был олицетворением Москвы или, во всяком случае, одним из ее ликов. В тихих улицах и переулках Арбата, вдалеке от шума и суеты торговой части города, испокон веков, а точнее со времен Екатерины II, селилось зажиточное дворянство, подчас опальное, подчас просто не желавшее служить. Не стесняя себя ни в чем, оно переносило в Москву привычный и удобный усадебный образ жизни — располагалось широко и просторно, по мере возможности сохраняя вокруг себя даже подобие деревенского ландшафта.
Еще Герцен противопоставлял московские особняки петербургским домам „о пятистах окнах”. Комически утрируя свободу московской застройки, он писал: „Я ужасно люблю старинные московские дома, окруженные полями, лесами, озерами, парками, скверами, гаванями, пустынями и степями, по которым едва протоптана дорожка от дома к погребу”.
Арбатский быт, подобно быту купеческого Замоскворечья, но на свой собственный лад, представлял собою квинтэссенцию московского образа жизни. В пореформенный период многие бывшие „дворянские” районы становятся торгово-финансовыми. Барские особняки остаются на Арбате, Пречистенке, Поварской, Малой Дмитровке. Но жизнь здесь скудеет и замирает. Герою Боборыкина каждый раз, как он попадает в эти края, кажется, что он приехал осматривать „катакомбы”. „Он так и прозвал дворянские кварталы. Едет он по Поварской, по Пречистенке, по Сивцеву Вражку, по переулкам Арбата [. . . ] Нет жизни. У подъездов хоть бы одна карета стояла. В комнатах темнота. Только где-нибудь в передней или угловой горит „экономическая лампочка”. Аристократия денежного мешка постепенно завладевает и этими улицами, прибирает к рукам старинные особняки, воздвигает новые, ревниво соревнуясь в роскоши и представительности.
Типичные одряхлевшие дворянские дома изображены в картинах Поленова „Бабушкин сад” (1878) и „Московский дворик” (1878). По свидетельству современников, все они были очень похожи друг на друга — деревянные, с колоннами по фасаду, с ярко-зелеными крышами.
В „Московском дворике” помещичья усадьба в городе предстает со стороны хозяйственного двора. Барский дом, отделенный от него забором, прячется в зелени запущенного сада, сквозь которую просвечивают колонны и треугольный фронтон фасада. Композиционным центром картины становится покосившийся старый сарай. Дворик с бревенчатым колодцем по-деревенски зелен и уютен. Подчеркнутая неэффектность мотива, его деревенский характер обнаруживают в этой работе Поленова близость к демократическим уст-ремлениям русской реалистической живописи второй половины XIX века. Недаром картина была выполнена художником как своего рода программа для вступления в Товарищество передвижных художественных выставок. Лиричес-кая интерпретация будничного мотива, интимность, небольшой размер полотен сближают Поленова с Саврасовым. Но Поленов вносит и свое, новое в восприятие города. Если в пейзажах Саврасова всегда ощущается привкус народного горя, ноты щемящей тоски, то Москва Поленова — это мир, проникнутый гармонической ясностью мироощущения. Безмятежно и неторопливо протекает жизнь. Патриархальность ее уклада выявляется жанровыми деталями — лошадь, запряженная в телегу, мирно пощипывает свежую траву, тут же возятся белоголовые ребятишки, женщина с ведром спешит к колодцу. Время словно бы остановилось. Тишина нарушается только квохтаньем кур и голосами детей. И это в самом центре города! Чувство светлой радости и поэзии исходит не только от мотива и бытовых деталей, ее несут в себе пленэрная живопись, особенная чистота цвета, прозрачность и многоцветность теней.
Мотив дворика, и ранее встречавшийся в изображениях Москвы, после появления картины Поленова становится особенно популярным. Часто обращается к изображению двориков С. И. Светославский („Дворик”, 1880-е гг.; „Постоялый двор в Москве”, 1892). Его работы характеризует однотипность мотива, композиционного решения, тяготеющего к академической картинности, колорита, сохраняющего еще коричневатую тональность. Дворики Светославского лишены по-леновской интимности и приветливости, захламлены, неряшливы, замкнуты неприглядными постройками, над которыми иной раз тяжело и торжественно высится церковь. Есть нечто угрюмое в покрывающем их снеге, сером от грязи, тоскливом безлюдье, темных стаях во-рон. „Вот она, матушка-Москва [ . . . ] во всей своей откровенности! [. . . ] Серенькая и не во всем опрятная [...]“, — говорил Н. Н.Ге о картинах Светославского. Художнику, несомненно, удалось выявить одну из характерных особенностей облика Москвы своего времени.
„Старая Москва” (конец XIX в.) Светославского — это обобщенный образ города, где все и вся погружено в блаженную дремоту. В пыльной дымке на исходе жаркого летнего дня затихает провинциальная по своему облику улица. Кажется, слышен только стук копыт старой лошади, которая медленно влачит пролетку со спящим извозчиком. На рубеже веков такая Москва уже уходила в прошлое.
Изменения, происходившие в городе, нашли отражение в работах М. М. Гермашева. В маленькой картине „Улица в Замоскворечье. Зима” (конец XIX — начало XX в.) возникает район Москвы, где селилось московское купечество. Это та „заповедная страна”, о которой говорил Аполлон Григорьев : „Уединенный странный утолок мира, называемый Замоскворечьем”. Уже дымятся на горизонте трубы фабрик, высятся на втором плане огромные доходные дома, однако они еще не таят в себе угрозы идиллическому существованию скромных, но полных своеобразного достоинства и уюта домиков, улиц, занесенных снегом.
Приметы старого и нового соединяет в себе московская улица в картине Гермашева „Улица Арбат” (начало XX в.). Благородный, увенчанный колоннами особняк соседствует здесь с многоэтажным жилым домом. О таких писал Андрей Белый: „['. . . ] Только-только отстроенный дом — декадентский, неравноплечий, нарочито с нахальством присевший одной стороною и взвинченно вздернутый самовольною башней —с другой, обращенный кощунственно к церкви”10. Рядом с каретами на картине изображен трамвай. В зимних сумерках загораются электрические огни, пришедшие на смену газовому освещению.
В начале XX века Москва преображается. Здесь еще раз уместно вспомнить А. Белого. В своих воспоминаниях он создает достаточно конкретную картину известных московских улиц: „Годы 1907—1908: изменилась Москва в эти именно годы: и внешне и внутренне! Пропадал ей присущий доселе размашистый провинциальный оттенок; и строились кубы домов: здесь — коробочный дом; там — коробочный дом о шести и семи этажах появлялся средь двух-трехэтажных мясницких, рождественских домиков; и появились кварталы, где высились только трубы, да трубы, да грубые кубы; а тарахтящая под колесами мостовая шумнела, и фыркали чаще авто; и повсюду бежали трамваи; тоскливая конка таскалась в окраинах. Преображались витрины; какой электрический блеск, переливанье, перебеганье, миганье над окнами, в окнах, под окнами даже [. ..] Ртутное освещенье пересиливало все блески сильнейшим отливом такого отчетливого белого света, денного почти — то Кузнецкий”.
Тема города все более вдохновляет не только русское, но и европейское искусство конца XIX — начала XX века. Проблемы чисто художественные, социальные, историко-культурные, философские и те, которые, прибегая к современной терминологии, можно было бы назвать проблемами экологии и футурологии, — все так или иначе оборачиваются в это время проблемой города. „Все пути в город ведут” (Э.Верхарн).
Город выступает как мощный импульс, явный или глубоко скрытый, таких явлений искусства, как импрессионизм, символизм (особенно литературный), экспрессионизм. Наконец, он порождает своего активного апо-логета — футуризм, фетишизирующий „механическую цивилизацию”, машину, скорость, динамику современной жизни.
В русском искусстве начала XX века тема города лидирует. Она становится ведущей в творчестве таких художников, как М. В. Добужинский, А. П. Остроумова-Лебедева, К.Ф.Юон, А.В.Лентулов. В ней сосредоточена основная проблематика „Союза русских художников” и „Мира искусства”. Так или иначе ей отдают дань едва ли не все видные художники времени: и круп-нейшие мастера „Голубой розы” — М. С.Сарьян, П.В.Кузнецов, живописцы „Бубнового валета” -И.И.Машков, А.В.Лентулов, Р.Р.Фальк, и вожди так называемого „русского авангарда” — М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова, М.З.Шагал, В.В.Кандинский.
Интерпретация темы города в русском искусстве во многом отлична от европейской, в ней своеобразно преломляются идеи импрессионизма и символизма, экспрессионизма, кубизма, футуризма, но господствующими оказываются не они, а проблемы, выдвинутые национальной художественной традицией и своеобразием исторического этапа. Москва воспринимается самыми различными по идейным и художественным установкам мастерами как символ национального пути развития России. И вновь разгорается полемика на тему, каким должен быть этот путь. В творчестве московских живописцев различных направлений, от импрессионистов „Союза русских художников” до кубофутуриста Лентулова и абстракциониста Кандинского, Москва как носительница национального духа противостоит северной столице, воплощающей в графике петербургского объединения „Мир искусства” европейское и общечеловеческое начало.
Проблема национального идеала приобретает особую остроту в свете поисков единого монументального стиля эпохи, поисков, в которые включаются все ведущие художники рубежа веков. Так называемый „русский стиль” находит в архитектуре Москвы значительно большее распространение, чем в Петербурге.
Концепцию городского пейзажа московской школы конца XIX — начала XX века с ее живописно-пленэрными исканиями, подчиненными выражению стихии русской души, определили Суриков и Поленов. Их последователи, пленэристы „Союза русских художников”, тоже находят национальную атмосферу в величии древних монументальных памятников и в задушевности скромных „уголков”. Новое отношение художника к действительности — углубленное изучение натуры, стремление воспринять ее в световоздушной среде — ведет к очищению палитры от коричневато-серой тональности, к яркости и свежести цвета. Особое внимание начинает уделяться качеству и эмоциональной выразительности художественной формы – цвета, света, композиции, рисунка, мазка, живописной фактуры.
Самый темпераментный и артистичный живописец „Союза” К. А. Коровин, неоднократно обращавшийся к изображению города, запечатлевший жизнь солнечного света и сияние ночных огней на улицах Парижа, Сева-стополя, Ялты, как ни странно, оставил очень немного пейзажей Москвы. „Константин на всю Москву”, как прозвали Коровина современники, свою щемящую ностальгическую привязанность к этому городу выразил в серии рассказов, написанных за рубежом. В них сохра йены краски и запахи города, неповторимость москов ских зим и весен. Одно из его немногочисленных поло тен на тему Москвы — „Москворецкий мост” (1914) — отличается широтой охвата пространства и компози ционной завершенностью, несвойственной большинст ву работ художника.
Коровин, как и другие живописцы „Союза”, не сочиняет свои композиции, а пишет с натуры, под открытым небом, более всего дорожа в своей работе остротой непосредственного впечатления, что роднит мастеров этого круга с импрессионистами. Картина сохраняет сходство с этюдом. Оно в торопливой размашистости кисти, пастозно-сти живописи, свежести колорита, слагающегося из раздельных, не смешанных на палитре мазков, в фрагментарности композиции.
Объектом изображения может стать теперь угол дома, часть стены или крыши. Л.В.Туржанский, например, в своей картине „Прошлое” (1911) воспроизводит только часть дворцового павильона Эрмитаж в усадьбе Кусково. Вопреки названию, в котором проявилось в духе „Мира искусства” тяготение к воспроизведению атмосферы ушедшей эпохи в памятниках старины, прелесть картины в ощущении сиюминутного трепета жизни. Главное здесь — острота восприятия художника, запечатлевшего павильон в тот миг осени, когда луч света зажигает стекла окон и смазывает контуры дерева, стынущего на ветру.
Излюбленной становится точка зрения на город сверху, из окна верхнего этажа. Но даже в далевом виде город часто не приобретает качеств обобщенного обра-за, а сохраняет впечатление фрагмента, части целого, которое не исчерпывается данной картиной. Примерами могут служить картины „Старая Москва” (1910-е гг.) А. В. Средина, „Вид Москвы” (1910-е гг.) П.И.Петровичева.
Любимейший мотив москвичей „Союза” -памятники древнего национального зодчества. Сам выбор натуры заставляет не ограничиваться этюдом, диктует стремление к поэтическому обобщению. Вслед за Суриковым эти художники воспринимают архитектуру как хранительницу памяти ушедших поколений, живую свидетельницу исторических событий народной жизни, вы-разительницу идей, чувств, представлений народа о прекрасном.
„Древние камни красноречиво повествуют в прекрасных формах искусства, [. . . ] о способностях ума и сердца своей нации, о глубинах ее душевной жизни”. Так пишет о русской архитектуре К. Ф. Юон, подлинный летописец Москвы, запечатлевший не только те внешние перемены, которые произошли с ее улицами и площадями на стыке двух исторических эпох, дореволюционной и послереволюционной, но так же сумевший тонко передать в городских пейзажах меняющийся пульс новой жизни. Введение древней архитектуры в пейзаж для него — способ в мимолетном и случайном раскрыть вечное. Образ Москвы в некоторых работах Юо-на соединяет в себе импрессионистскую непосредственность восприятия натуры с обдуманной построенностью и эффектной картинностью. Аналитические задачи сосу-ществуют с поисками поэтического синтеза, восприятие города овеяно историко-философскими, социальными и национальными реминисценциями. Старинная архитектура у Юона, как и у некоторых других москвичей этого круга, чаще всего выступает в органической связи с современной жизнью. Народный, национальный характер жизни улицы прежде всего привлекает художников „Союза”. Излюбленные городские сюжеты — базары, ярмарки, пристани, площади, раскинувшиеся у древних стен, заполненные толпой. Пестрое месиво цветовых пятен передает движение человеческой массы.
В акварели Юона „Лубянская площадь зимой” (1905) Китайгородская стена завершает собой изображенное пространство площади, увиденной сверху. На белой пелене снега темнеют силуэты прохожих, лошадей, впряженных в сани или тянущих по рельсам вагончики конки, извозчиков, поджидающих седоков. Есть здесь и конкретность места, дня и времени года, и вместе с тем это типичный облик русского города начала XX века. Художнику удалось уловить „серебристо-серый, жемчужный колорит московского зимнего дня”. Московские пленэристы ищут возможности передать не только неповторимость определенного времени дня и года, но и национальную неповторимость понимания пленэра, чем в какой-то мере объясняется особое пристрастие мастеров „Союза” к зиме, с которой у многих ассоциируется ощущение исконно русского.
Восприятие города художниками этого круга празднично. Чувство радости бытия заключено в самой чистоте цвета картин, в сиянии солнца, блеске зелени, трепетности воздуха. Колористический строй города в картине определяется гармонией красок самой многоцветной архитектуры и пестрых народных праздничных костюмов. Аппликативность распределения крупных пятен локального цвета вносит декоративное начало в пленэрную живопись.
Праздники часто становятся сюжетами картин. Юон с точностью этнографа и лиричностью поэта изображает освященные древней традицией праздничные обычаи Москвы и Московской губернии: вербные базары, масленичные катания на тройках, пляски свах во время свадьбы, предшест-вующий ей девичник, подмосковные хороводы. Он создает несколько вариан-тов картины, посвященной пасхальному гулянью на Девичьем поле:„У балагана. Девичье поле” (1909), „Пасхальное гулянье на Девичьем поле” (1916), „Гулянье на Девичьем поле” (1947).
В живописи московских пленэристов находит также своеобразное отражение любимая импрессионистами ночная жизнь города. Примером могут служить пейзажи Юона на темы жизни ночной Москвы, которые он называл „московскими ноктюрнами”. Эффекты искусственного освещения в них делают мир зыбким и таинственным, превращают в тени фигуры прохожих. Оттенок фантасмагоричности есть в акварели Юона „Ночь. Тверской бульвар” (1909), где на фоне ярко освещенной чайной движутся подчеркнуто выразительные контурные, как в театре марионеток, силуэты людей.
В своей картине „Тройка у Старого Яра зимой” (1909) художник выхватывает „кусок жизни”, как это свойственно импрессионистам, заостряя внимание на эффектах цвета и света, любуется разноцветным сиянием окон и фонарей ресторана, смешанным с синевой ночи, декоративно-четкими силуэтами коней, запаренных быстрой ездой, из ноздрей которых валят клубы пара. Закутанные в тяжелые шубы фигуры людей темны и бесформенны, ясно различима лишь румяная круглолицая дама на крыльце.
Чтобы глубже ощутить дух древнерусской архитектуры, художники „Союза” иногда пытаются воскресить ее прошлое, пору ее расцвета. А. М. Васнецов на рубеже веков создает цикл работ, посвященных старой Москве. Он влюблен в красоту Кремля. Архитектурные памятники города для него — „народное творчество в жизни прошлого”13. В своих картинах, рисунках, акварелях, опираясь на материалы музеев, архивов, библиотек, собственную обширную коллекцию старинных планов и гравюр с изображением различных мест города, он воссоздает древнюю Москву, ее быт с педантизмом ученого. Много сил художник тратит на достижение точности реконструкции архитектуры. Любовь к науке, к изучению и сбору материалов, их классификации А.Васнецов называет одной из главных причин своего увлечения старой Москвой. Его работы совмещают в себе достоверность исторического документа и образную выразительность произведения искусства.
Декоративно эффектна его „Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века” (1900). Полотно строится на контрасте темного города и зеленовато-золотого неба, на котором вырисовываются силуэты собора Василия Блаженного и других церквей. Тьма словно светится изнутри. Она соткана из многих ритмически перекликающихся красок, изо-билут деталями, красота ко-торых раскрывается при разглядывании картины.
Художник заботится о правдивом воспроизведении не только архитектуры и быта, но и настроения ушедшей эпохи. Например, рисунок „Вьюжит. Старая Москва” (1904), выполненный растушевкой, мастерски пе-редает глухую зимнюю ночь. За порывами вьюги едва видны низкие деревянные строения города, церквушка, столб с колоколами, предназначенными для того, чтобы оповещать жителей об опасности. В снежной пелене смутно различимы силуэты волков на перекрестке улиц. Художник словно напоминает здесь об изначальной роли города — защиты от стихий природы, хищных зверей и врагов.
В картине „Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века” (1913) есть намек на сюжет. Не безмятежен, как это может показаться на первый взгляд, рассвет, окрашивающий розовыми лучами сияющие терема. Нотку тревоги вносят скачущие во весь опор всадники, воин и монах; так возникает атмосфера „смутного времени”. („Гонцы” —одна из картин серии „Смутное вре-мя”.) Однако в этой работе наиболее впечатляющим остается детализованная реконструкция городской застройки XVII века. Композиция, замкнутая на заднем плане Кремлевской стеной, утеснена изображением множества зданий. Обращает на себя внимание богатый каменный терем с дорогими слюдяными окошками, высокой лестницей, львами на столбах и стоящее через дорогу строение более скромное, хотя не менее прихотливо изукрашенное. В композиции картины есть нечто от театральной декорации. Сказывается почерк художника, неоднократно оформлявшего спектакли на русские исторические и сказочные темы.
Близки Васнецову в пристрастии к допетровскому периоду существования Москвы и художники А. П.Рябуш-кин, С.В.Иванов. Каждый из них в изображении города идет своим путем.
Рябущкин в воссоздании прошлого опирается не столько на науку, сколько на интуитивное постижение духа истории через живые, переходящие из века в век, из рода в род традиции народного творчества. Если А. Васнецов часто переносит в свои работы точные копии предметов народного быта и искусства, то Рябушкин черпает в декоративно-прикладном творчестве то, что является его квинтэссенцией, — контрасты цвета и узорочье форм, звучность неразбавленных красок, привязанность к красному — „красивому” цвету. Эти компоненты ложатся в основу его индивидуального стиля, в лучших его работах характеризующегося изяществом, грацией, одухотворенностью.
Подлинным шедевром русской живописи начала XX века является картина Рябушкина „Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)” (1901). В композиции полотна использована иллюстрация из книги „Описание путе-шествия в Московию и через Московию в Персию и обратно” немецкого ученого Адама Олеария, посетившего Россию в составе шлезвиг-голыптейнского посольства в 1633—1634 и в 1635—1639 годах. Отталкиваясь от этого рисунка, ценного как исторический документ, но не представляющего интереса в художественном отношении, Рябушкин создает образ Москвы, отмеченный просветленной гармонией, сказочно-песенными ассоциациями. Очарование работы не в достоверности отражения старого быта, а в его преображении во имя поэтического одухотворения. Этому служит и щемящая прелесть пейзажа, светлых сумерек ранней весны, и сказочная стремительность сияющего киноварью и золотом свадебного поезда, проносящегося на фоне темных деревянных строений. Рябушкин сознательно отвлекается от конкретных социальных или психологических характеристик своих персонажей, но заостряет в них приметы, общие для героев сказок, песен, былин. Например, показывает горделивую плавность выступающей, „будто пава”, „красной девицы”, ее „косу русу до пояса”. Песенный лад ощущается и в колорите картины. Крупные локальные пятна цвета декоративны, мажорны. Рисунок грациозен, линейная стилизация, к которой прибегает художник, роднит его полотна с произведениями мастеров „Мира искусства”.
Декоративность цвета, импрессионистическая фрагментарность композиции усиливают впечатление мимолетности фантастического видения, которое производит свадебный поезд на фоне исторически и жизненно достоверного пейзажа Москвы. В противовес Рябушкину, С.В.Иванов в своих произведениях, изображающих быт Москвы XVII века, сохраняет впечатление натурного этюда. В картине „Приезд иностранцев в Москву XVII столетия” (1901), написанной широкой кистью пленэриста, жизнь улицы словно подсмотрена свежим и острым взглядом.
Выразителями московского духа были не только мастера „Союза русских художников”, но и живописцы объединения „Бубновый валет”. Современник писал: „Только Москва с ее сочною пестротою и вместе с тем с ее Щукиным и Морозовым могла породить „Бубновый валет” с его охотнорядским культом снеди, с его преувеличенными размерами людей и вещей, с его портретами, в которых столько же от лубка и вывески, сколько от сезанновских моделей, — и с его пейзажами, в изумрудно-синей и желто-оранжевой насыщенности которых столько же Москвы, сколько и . .. Экса в Провансе”.
В этой характеристике примечательно причудливое соединение крайностей — исконно русского и новейшего европейского, действительно свойственное Москве. Заботясь о сохранении национальной культуры, Москва в лице своих просвещенных граждан, крупных предпринимателей, таких, как С.И.Мамонтов, коллекционирует произведения народного декоративно-прикладного искусства, возрождает старинные художественные промыслы, в лице П.М.Третьякова собирает работы выдающихся современных русских художников. Но в то же время Москва оказывается на уровне передовых ев-ропейских вкусов времени, экспортируя из Парижа картины французских импрессионистов, символистов, фо-вистов. В начале XX века на стенах особняков И. А. Морозова, С.И.Щукина красуются полотна В.Ван Гога, П. Гогена, А. Матисса, П. Сезанна, А. Дерена, П. Пикассо, пугая одних, заставляя задуматься других, становясь своего рода школой для некоторых молодых московских живописцев.
Художникам, выступившим на арену искусства в 1910-е годы в объединении „Бубновый валет”, — И.И.Машкову, А.В.Лентулову — особенно близка „азиатская” красочность родного города. В самой их живописи есть жизнелюбие, энергия, здоровье, воспринимавшиеся как свойства Москвы и москвичей.
В основе их искусства лежал сложный сплав приемов современной им западноевропейской живописи и русского народно-декоративного творчества — лубка, вывески. Глубокое уважение они сохраняли и к мощной живописи Сурикова.
Московские пейзажи Машкова („Городской пейзаж”, „Вид Москвы. Мясницкий район”, 1912—1913) словно намалеваны малярной кистью. Несомненна, однако, их жизненная конкретность, они написаны с натуры. В композиции сохранена импрессионистическая фрагментарность, но перламутровая дымка, растворяющая предметы в пространстве, отсутствует. Машков обводит кистью контуры домов, колоколен, деревьев, плакатно упрощая формы и краски. Неразбавленный нюансами, взятый крупными пятнами, форсированный цвет звучен и выразителен. Его роль не сводится к передаче поверхности предмета, цвет — основной формообразующий фактор: движение кисти, насыщенной краской, передает конструкцию предмета, вскрывает ту внутреннюю энергию, которая лежит в основе его формы.
В „Городском пейзаже” возникает почти физическое ощущение весеннего роста, движения соков при виде деревьев, условно написанных белыми кружками, волнами или вздымающимися вверх наподобие фонтана желтыми и зелеными полосами. Перспективное сокращение сохраняется, но иллюзорность снята одинаковой интенсивностью цвета на первом и заднем плане, как бы развертывающей пейзаж на плоскости холста.
Свой собственный, неповторимый образ Москвы создает художник А.В.Лентулов. Художнику чужд восторг футуристов перед машиной, этим фетишем современного города, чужд восторг перед жизнью, „взорванной моторами”. С точки зрения футуризма, устремленного в будущее, декларирующего наступательное движение вперед, клеймящего интерес к прошлому, Лентулов непозволительно привержен старине. Им владеет восторг перед цветистой яркостью Москвы. С бесшабашной удалью и размахом талантливого народного умельца он играючи строит на холсте свои соборы и города, соперничая с древними зодчими в звонкости красок, щедрости и изобилии форм. Он украшает свои картины наклейками из золотой и серебряной фольги, шелка, бархата (едва ли не все фигуры в картине 1916 года „У Иверской” —такого рода коллаж), радуясь этому мишурному блеску, как ребенок. Древняя столица испокон века славилась чуть ли не варварским пристрастием к роскоши, и Лентулов, по его словам, выражает „сущность внутреннего уклада, вкуса и любви Москвы к декоративно-пышной красоте”.
Броское и зазывное веселье ярмарочных вывесок, балаганов, каруселей — наиболее мощный источник искусства Лентулова. Мотив разудалой ярмарочной карусели, лихое круженье пестрых сверкающих форм —вот чем оборачивается футуристический принцип динамизма в его композициях.
Иной предстает Москва в ранних работах Р. Р. Фалька, художника, также начинавшего свою творческую деятельность в объединении „Бубновый валет”. В картине „Церковь лиловая” (1912) отсутствует балаганно-праздничное начало, свойственное картинам Лентулова. Сами названия полотен раскрывают живописную задачу, которую ставит перед собой художник, — поиски объединяющей тональности, которая вносила бы лирические ноты в звучание образа Москвы. В трактовке форм используются приемы, распространенные в живописи после Сезанна, сближающие многих русских художников предреволюционного десятилетия.
Подобные приемы встречаются также у Н. С. Гончаровой, например, в картине „Московская зима” (1910-е гг.). Обобщенная контурами форма лаконична, цвет монохромен. Любимые постсезаннистами краски — белила, охра, сажа, дополненные голубым и розовым в изображении снега и неба, — создают выразительный образ московской зимы с уютностью ее глухих переул-ков, скрипом саней, клубами дыма из труб и шапками снега на ветвях деревьев, уподобленных художницей клубам дыма.
Предчувствие гибели буржуазной цивилизации многие художники начала XX века выражали в картинах гибели земли или города. Здесь можно вспомнить работы М. В. Добужинского, Л. С. Бакста, К. Ф. Юона. Так поступал и Кандинский, используя конкретные мотивы московского пейзажа для создания фантастического образа вселенной, разметанной бурей.
Но перемены, которые несла с собой наступающая революция, приводили к тому, что действительность становилась для художников увлекательнее, чем утопии и абстракции. Искусство вновь обращалось к отражению жизни.
Образ Москвы в дни первой русской революции 1905 года сохранили произведения С.В.Иванова. Картина „Расстрел” (1905) — выразительное обобщение драматических событий, очевидцем которых был художник. Пластическое решение лаконично и экспрессивно. Все поле холста занимает пространство площади, замкнутое темными жесткими кубами домов, тревожно вспыхивающих по граням розовым, желтым, голубым. Слева, у кромки холста, угадывается скрытая сизым дымом выстрелов цепь солдат, справа — толпа демонстрантов с красным знаменем. Два тела, застывших на мостовой в неловких позах, подчеркивают трагический смысл совершающегося.
Кровавые избиения мирных демонстрантов побудили М. В. Добужинского к созданию в 1905 году рисунка метафоры „Умиротворение”, в котором Московский Кремль — символ России — тонет в море крови. В этих „спокойных водах” отражается идиллическая радуга.
Одним из первых художников, откликнувшихся на революционные события 1917 года, был В.Н.Мешков. В ряде работ он запечатлел глубоко взволновавшее его зрелище восставшего народа на улицах Москвы. Уже февраль 1917 года ознаменовал гибель самодержавия и торжество революции, в победе которой наряду с Петроградом решающая роль принадлежала и Москве. Захват Кремля восставшими рабочими и солдатами Мешков показывает в своей картине „Начало Февральской революции” (1917). У Манежа, у Кутафьей башни Кремля чернеет плотное кольцо людей. Здесь и там вспыхивают красные флаги — Москва вступает в новый период своего существования. Изменение образа Москвы, его трансформация в русском искусстве 1850—1910-х годов определяется как переменами в ее облике и жизни на протяжении более чем полувека, так и процессами, происходящими внутри самой художественной культуры. Искусство эволюционирует от романтического преображения действительности к анализу и критике социальных явлений. В конце XIX века возникают неоромантические тенденции, проявляющиеся в интересе к национальной истории и фольклору, в повышении эмоциональной выразительности формы, которая сама по себе в дальнейшем стремится стать эквивалентом духовного содержания образа.
(Москва глазами художников)