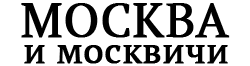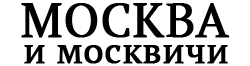Домашняя медицина
Таков ожидаемый спектакль и таков его идеальный финал, когда главную роль исполняет домашний врач, когда он блистает над вами своим искусством. Дело, однако, в таланте:
Я ускользнул от Эскулапа Худой, обритый — но живой...

Лекарям верили и не доверяли, обвиняли их в случае печального исхода и снова звали при малейшем недомогании. За приглашенными на эту должность иноземцами наблюдал в XVI веке, главным образом для того и созданный, Аптекарский приказ.
Стольник Бориса Годунова Катырев-Ростовский находил в своем государе «один лишь недостаток, отлучивший его от Бога: к врачам был сердечно расположен». Среди заморских «эскулапов» попадались как шарлатаны, так и подлинно искусные медики, вроде придворного доктора Самуила Коллинса, следившего за здоровьем царя Алексея Михайловича и известного по своим обстоятельным запискам о Московии. Как след его ученой деятельности осталась, например, записка «о разумении тонких природ человецы» со ссылками на Аристотеля и Гиппократа.
Наконец, в 1654 году, при Аптекарском приказе открыли школу, куда учиться лекарскому делу определили тридцать стрельцов и детей стрелецких. По успешном освоении наук русские кадры водворились в приказах и полках, потихоньку оттесняя дорогих приезжих специалистов. Уже в 1679 году стольник Матюшкин заявлял, что «лекарь-иноземец ему не надобен, а лечит-де его лекарь Митрофан Петров».
Явился «Отец Отечества» и, основав несколько аптек, переключился на украшение своего Петербурга. Преемники преобразователя старались от него не отстать, и «порфироносная вдова» надолго лишилась их забот. Благоустройство Москвы к началу царствования Екатерины столь сильно приближалось к нулю, что у императрицы, конечно, были причины невзлюбить старушку-грязнушку. Хотя ведь жаловались москвичи через князя Голицына, писали в Уложенную комиссию, что, мол, «в рассуждении великой города обширности и многолюдства, нет довольного числа аптек, докторов и лекарей вольных» и что «страждущие принуждены за доктором, или лекарем, или лекарством посылать в дальнее место, а чрез сию медленность и за неполучением в надлежащее время скорой помощи подвергаются крайнему бедствию и лишению живота». В заключение горожане просили об увеличении числа аптек и лекарей, об их разумном распределении по городским частям и об узаконенной плате за посещение «вольного» врача. Но нелюбимые заброшены, с мерами вышло промедление, может, и вовсе забыли о просьбе, пока вдруг не вспыхнула эпидемия чумы и знаменитый бунт, в которых Екатерина опять-таки обвинила самих москвичей.
Каким же все-таки представало перед пациентами это, сперва немногочисленное и какое-то доморощенное, сословие вольнопрактикующих эскулапов? У Жуковского есть басня. Там Смерть, выбирая себе министра, колеблется между Чумой и лекарями. Выбор, правда, падает на Невоздержание, а более-менее детальный портрет московского врача, какой удалось сыскать, относится уже к началу XIX века и принадлежит перу бытописателя Петра Вистенгофа. Перед нами возникает странный субъект «в узких, предосудительно коротких панталонах без ремешков», во фраке — «поношение всем фракам», с «искусственными и самородными дырочками» на шейной косынке и часами, похожими на луковицу. Описание осмотра невозможно не привести дословно, хотя бы даже пришлось поделить гонорар с автором «Очерков московской жизни».
Сделаем скидку на иронию, сатиру, гротеск и степень желчности. Заголовок о «счастливом успехе» и «эффектной обстановке» взят из мемуаров прославленного Пирогова, вспоминавшего свои детские впечатления от визита к больному старшему брату знаменитого тогда медика Ефрема Осиповича Мухина. Блестящий врач-практик преподавал также в университете, боролся за всеобщее оспопрививание и написал по хирургии «Первые начала костоправной науки».
Зачисленный по его совету в университет, Пирогов оказался несколько разочарованным: анатомия «изучалась по рисункам, операции производились на редьке и брюкве», так что будущий великий хирург, по собственному признанию, «не сделал в университете ни одной операции на трупе». Компенсацией служило общение с профессорами, завоевавшими авторитет широкой частной практикой. Кроме Мухина, будущие обвинения Вистенгофа опровергал другой любимец московских пациентов — полулегендарный и колоритнейший Матвей Яковлевич Мудров.
Даже на страницах «Войны и мира» промелькнет строка, что, мол, Мудров «лучше определил болезнь» Наташи Ростовой. Реализм, понятный немногим. «Познание болезни есть половина лечения», — говорил терапевт. Главным его достижением считается метод установления точного диагноза путем разностороннего обследования больного, тщательного опроса пациента и составления истории болезни, «дабы в описании твоем, как на некоем чертеже, одним взглядом по следам опустошений можно было видеть завоевание, сделанное болезнью; только начертав план, можно решать, какую с нею вести войну».
Мудров лечил Пушкиных и дружил с франтоватым снобом Чаадаевым — что не позволяло ему носить дырявое или неопрятное платье. Заработанное врачебной практикой состояние давало возможность, вопреки Вистенгофу, приобрести и новый фрак, и обширное владение на Пресненских прудах. До переезда туда Мудров жил на Арбате, в Большом Афанасьевском переулке, где в его приемной висела таблица со святыми — кому при какой болезни молиться. Погиб Матвей Яковлевич в Петербурге, «жертвой своего усердия», при борьбе с эпидемией холеры.
В 1840-х годах с внешностью врача пациенты стали связывать его достаток, а значит, объем практики и мастерство. «Предрассудки так сильны, — замечает Вистенгоф, — что в Москве множество людей ни за что не поверят себя лечить самому искуснейшему врачу, если он приедет к ним без крестов, на ваньке; даже есть и такие, которые сомневаются в искусстве доктора, если он не носит золотых очков».
И представительностью, и знаниями «единодушную славу в своенравной публике» сумел приобрести Григорий Антонович Захарьин. Почти целиком переключившись к концу жизни на частную практику, он стал владельцем больших доходных домов. Не взял ли парочку его черт, хотя бы для «Ионыча», Чехов, говоривший, что из писателей он предпочитает Толстого, а из врачей — Захарьина? Сам Толстой также признавал мастерство терапевта и лечился у него не раз.
Положительный эффект давало развитие принципов Мудрова — тот же тщательный опрос больного с учетом влияния на него внешней обстановки. Современники отмечали, что, следуя этому методу, Захарьин поднял уровень диагностики «на высоту искусства».
Успеху в обществе способствовала и своеобразная манера поведения с пациентом, возможно, перенятая Захарьиным у своего учителя, Федора Ивановича Иноземцева. «Хорошее впечатление от всей его фигуры и речей, — пишет об Иноземцеве другой его ученик, знаменитый физиолог Сеченов, — усиливалось крайне ласковым и участливым его отношением к больным, для которых у него не было другого имени, как «дружок» или «мой милый»». Обаяние этого врача столь располагало к нему пациентов, что со многими из них у Иноземцева устанавливались прочные дружеские отношения. Среди таких врачуемых друзей были, например, генерал Ермолов, поэт Языков и Гоголь.
Больницы оставим для следующего очерка. Они способны составить отдельную тему, причем больше связанную с благотворительностью. Здесь автору, напротив, не терпелось исследовать тот сюжет, когда пациент рассчитывается за лечение наличными, чеками — словом, деньгами. Хотя, конечно, мы немало знаем и о бескорыстии врачей. Тот же Мудров, например, за свой счет снабжал неимущих лекарствами («… вытвердите фармакопею бедных»), Захарьин каждый год вносил до десяти тысяч рублей в пользу нуждающихся студентов университета, помогал деньгами начальным школам Пензенской и Саратовской губерний. «Святой доктор» Гааз умер в бедности, истратив все свое состояние на помощь бедным и бездомным больным, заключенным пересыльных тюрем и их детям («Спешите делать добро»).
«Лечиться даром» не означало тогда «даром лечиться». У талантливого доктора как богатый поправлялся за гонорар, так бесплатно выздоравливал и бедный. Дело было только в способностях — впрочем, как и теперь, как и повсюду.