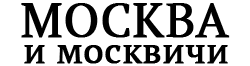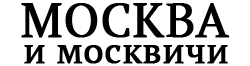Древняя Москва XII - XV вв.
(из книги М.Н. Тихомирова)
ГЛАВА I. НАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МОСКВЫ
РАННЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
Археологические исследования установили, что территория Москвы была заселена с древнейших времен, хотя на страницах письменных источников Москва появляется очень поздно, только в середине XII в. Первые известия о Москве рисуют ее как небольшой окраинный пункт на западной границе богатой Владимиро-Суздальской земли. В то же время нет никаких оснований утверждать, что в 1147 г., когда впервые упоминается о Москве, она была совсем новым поселением. Летопись говорит о Москве как о более или менее известном пункте, о котором не надо сообщать что-либо в объяснение того, где он находится и когда он возник. Поэтому у нас есть все основания предполагать, что история Москвы становится доступной для нашего изучения с середины XII в., а начинается гораздо раньше, имеет свой предысторический период, может быть уходящий корнями в очень отдаленное прошлое.
Во всяком случае, несомненно, что к середине XII в. территория Москвы была не только заселена, но и вступила в торговый обмен с соседними волжскими областями. В этом нас убеждают находки в разных концах города арабских диргемов IX в. Они найдены были при устье ручья Черторыя (территория Дворца Советов) и у Симонова монастыря. Серебряные монеты, найденные у ручья Черторыя, чеканены одна в 862 г., вторая в 866 г. Это первый показатель того, что бассейн Москвы-реки рано втянулся в торговые связи с отдаленными странами Востока, конечно, при посредстве великого волжского пути. Здесь нелишне будет вспомнить, что начальная летопись знает, что по Волге можно дойти до Хвалынского (Каспийского) моря, добраться до Волжской Болгарии и Хорезма (в Хвалисы), иными словами, обрисовывает нам путь, по которому арабский диргем из Мерва при посредстве хорезмийской и болгарской торговли мог попасть далеко на север, в район позднейшей Москвы.
Таким образом, уже в середине IX в., за два столетия до первого упоминания о Москве в летописях, территория Москвы в разных частях была, несомненно, населена и даже в какой-то мере связана с отдаленными странами Востока.
Это раннее заселение объясняется тем, что район Москвы представлял собой значительные удобства для поселенцев. Вдоль реки здесь тянулись большие заливные луга, в густых лесах водились дичь и дикие пчелы, реки и озера изобиловали рыбой. Территория Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших ее со всех сторон. Эта компактность московской территории, как будет видно далее, имела немалое значение для экономического развития Москвы, которая естественно сделалась центром большой сельскохозяйственной округи.
Чудесная среднерусская природа отличается особым разнообразием лесной растительности в районе Москвы. Не забудем, что течение реки Москвы намечает как бы видимую границу двух лесных зон: хвойной и смешанной. К северу от Москвы-реки начинаются обширные хвойные леса, к югу от нее преобладает разнолесье. Конечно, и к северу и к югу от Москвы не наблюдается природное однообразие. Дубовые леса встречаются и к северу от Москвы, а сосновые рощи не редкость и в южной подмосковной полосе. И тем не менее общая характеристика московской природы остается правильной и хорошо знакома всем москвичам. Стоит только сравнить пейзаж, открывающийся из окон поезда на Северной и на Курской дорогах. В первом случае мы видим в окно бесконечные леса, хмурые еловые и сосновые массивы, редко перемежающиеся открытыми полянами. Тот, кто едет по Курской дороге, наоборот, видит широкие пространства полей и только кое-где дубовые и березовые леса и рощи. Район Москвы имеет то своеобразие, что в нем природные особенности обеих лесных зон сочетаются вместе, и смешанные леса вторгаются на север как бы особым островом или мешком.
Относительная заселенность московской территории говорит о возможности существования здесь какого-то населенного пункта, городка или ряда городков задолго до XII в. Действительно, мы знаем о нескольких городищах в черте города, остатки которых еще можно было различить в начале прошлого столетия. З. Ходаковский, а вслед за ним Н. С. Арцыбашев указывали на территории Москвы, по крайней мере, три городища. Одно находилось у Андроньева монастыря при впадении ручья Золотой Рожок в Яузу, другое у церкви Николы в Драчах, или Грачах, которая была построена на «…холме узловом при двух лощинах, брошенных течением Неглинной и ручья», третье – Бабий городок – на правом берегу Москвы-реки, у бывшей бабьегородской плотины.
Неизвестно, какой народ населял в древности московскую территорию, но в исторические времена она была уже заселена славянами. Однако следы языка древнейших насельников территории Москвы сохранились даже в современной московской топонимике, прежде всего в названиях рек, речек, ручьев и озер.
Нам бросается в глаза то обстоятельство, что большая часть значительных притоков Москвы-реки имеет звучные, но малопонятные для нас названия, тогда как маленькие речки обычно прозываются русскими или, во всяком случае, славянскими именами. Перед нами два слоя названий: древнейший и более новый. Это очень ясно вырисовывается при перечислении названий больших и малых притоков Москвы-реки (в скобках указана длина в километрах: Иночь (46 км), Искона (70 км), Руза (138 км), Волшня (33 км), Озерна (10 км), Истра (106 км), Нудыль (44 км), Сходня (38 км), Нимфа (40 км), Пехорка (34 км), Гжелка (30 км), Нерская (72 км), Гус-лица (32 км), Колоча (30 км), Умирица (36км), Сетунь (28 км), Пахра (122 км), Десна (91 км), Моча (52 км), Рожой (55 км), Отра (24км),Северка (122 км), Городенка (39 км), Коломенка (47 км). Из этого списка в 24 названия наиболее значительных рек москворецкого бассейна далеко не все названия звучат для нас малопонятно. По крайней мере, 5 названий могут найти себе объяснение в славянском языке (Озерна, Десна, Сходня, Северка, Городенка, может быть, и Сетунь), но это не меняет общей картины. Большинство притоков Москвы-реки, к звучным названиям которых уже привыкло наше ухо, носят какие-то древние имена. И это становится особенно ясным и контрастным при сравнении названий крупных москворецких притоков с мелкими, длина которых не превышает 20 км. Чтобы не утомлять внимание читателей, возьмем на выборку только названия притоков Рузы. В реку Рузу впадают притоки: Становка, Малиновка, Дубронивка, Жировня, Глинка, Мутня, Житойна, Педня, Дуба, Рудановка, Медведовка, Белая Будка, Мошонка, Хованька, Озеранька, Кастинка, Хлопня, Костомка, Вездетемка, Сезечевка, Даниловская, Макарьевская, Изгарье, Жетанка, Вошиня. Вероятно, лингвисты затруднятся дать объяснение некоторых названий из числа этого длинного ряда, но преобладание понятных нам славянских названий над другими четко бросается в глаза. И то же самое мы обнаружим при знакомстве с названиями других небольших речек бассейна Москвы-реки.
Кажется, единственный вывод, который можно сделать из сопоставления этих двух рядов названий, приведенных выше, сведется к признанию того, что в районе Москвы жило древнее население, передавшее восточнославянским племенам свои или более древние названия значительных рек, тогда как мелкие реки и озера получили имена заново. Перед нами очень важное явление, указывающее на непрерывность устной традиции в передаче названий рек бассейна Москвы-реки. Древние названия наших рек могли сохраниться только при условии существования постоянных поселений на их берегах, при передаче этих названий из уст в уста, иначе эти реки остались бы безымёнными или получили бы свои имена от новых пришельцев. И тут мы опять встречаемся с одной особенностью, характерной для московской территории. Именно на узкой московской территории мы сталкиваемся и с мелкими речками, носящими непонятные для нас названия.
Так, в Москву-реку справа впадают притоки с названиями: Химка (19 км), Ходынка (4 км), Пресня с Бубной, Сара; Нимфа принимает приток Ичку (6 км) и ручей Чечеру. Это говорит нам о том, что район Москвы, возможно, был населен гуще, чем прилегающие к нему местности. Поэтому именно здесь, на старой обжитой территории, и лучше сохранилась устная традиция, которая донесла до нас древние имена ручьев и речек. Их оставил пока неизвестный для нас народ.
МЕРЯ И СЛАВЯНЕ
Письменные свидетельства ничего не сообщают о времени, когда появились славяне в бассейне Москвы-реки. Археологические данные также еще не приведены в полную известность, и среди самих археологов нет согласия, надо ли относить те или иные памятники, найденные на московской территории, к славянским или каким-либо другим народам. Но те же письменные источники хорошо знали, что в IX-X вв. у Ростовского и Переславского озер жил народ «меря». Этот народ сближают с современными марийцами, и такое сближение находит оправдание в наших источниках, поскольку еще в XVI столетии существовало предание, что меря бежала из Ростова в Камскую Болгарию, чтобы спастись от крещения.

«...Памятники, найденные на московской территории»
Переславское озеро уже в те отдаленные времена называлось также Клещиным, а Ростовское озеро имело второе имя Неро. В этом названии справедливо видят прямое указание на мерю, обитавшую на его берегах. Переславль, где, по летописи, жила меря, находится в непосредственном соседстве с Москвой. Поэтому и в районе Москвы можно предполагать поселения мери. Вероятно, об этих древних поселениях и напоминают нам такие названия, как река Нерская и озеро Нерское. Река Нерская является последним левым притоком Москвы-реки, а озеро Нерское принадлежит к бассейну Яхромы, на которой стоит Дмитров. Вероятно, более тщательное изучение названий рек, озер и урочищ, а также археологические изыскания восстановят перед нами картину расселения мери в бассейне Москвы-реки. Меря, по-видимому, была столь немногочисленна, что быстро исчезла или слилась со славянами, оставив воспоминания о себе только в некоторых географических названиях.
ВЯТИЧИ
В районе позднейшей Москвы столкнулись два колонизационных славянских потока, шедших с севера и юга, вернее, с северо-запада и с юго-запада. С северо-запада шли кривичи и ильменские славяне, с юга – вятичи. Граница между теми и другими детально выяснена археологическими исследованиями, в особенности трудами А. В. Арциховского. Течение реки Москвы служило примерной границей, разделявшей вятичей от кривичей. Севернее ее жили кривичи, южнее – вятичи. Однако в районе Москвы поселения вятичей переходили речную границу и вторгались в кривичскую зону большим мешком. По заключению А. В. Арциховского, «Московский уезд, за исключением небольшого куска на севере, был весь вятическим».
В позднейшее время, в начале XIV в., мы узнаем, что волости, лежавшие к югу от Москвы, были рязанскими. К их числу принадлежали Лопасня и Коломна, находившиеся в непосредственной близости к Москве. Между тем Рязанская земля в это время признавалась страной вятичей, а Рязань – вятическим городом. Она была крупнейшим центром вятического племени, вследствие чего наши поздние летописцы иногда заменяют ставшее малопонятным слово «вятичи» привычным названием рязанцы («…вятичи иже есть рязанци».
Вятичи пришли в бассейн Москвы-реки с юга и встретились здесь с кривичами.
Наш замечательный ученый покойный академик А. А. Шахматов объясняет этим столкновением двух мощных славянских племен своеобразные особенности московского городского говора. Он отмечает, что язык города Москвы представляется «…наиболее типичным среди всех остальных смешанных говоров». Северорусские и восточнорусские особенности распределены в нем без сколько-нибудь явного перевеса одних перед другими. А. А. Шахматов объяснял специфику московского городского языка тем, что в районе Москвы встретились племена вятичей и кривичей. Вятичи получили перевес, так как нашествие татар заставило их покинуть свои прежние поселения и передвинуться на север.
Но движение вятичей, конечно, началось задолго до татар. Об этом нам говорят красочные описания походов черниговских князей на север в страну вятичей, где в середине XII в. точно внезапно появляются города, ранее никогда не упоминавшиеся в летописи. Конечно, это еще не значит, что названные в летописи города только что возникли. Они могли существовать и ранее, и летописец мог их упомянуть впервые только в связи с княжескими походами. Однако и в этом случае ясно, что страна вятичей уже потеряла свой глухой характер. Поэтому черниговские князья могли быстро передвигаться от одного населенного пункта к другому.
В 1146 г. черниговский князь Святослав Ольгович бежал от преследования , Мономаховичей на север «за лес», в землю вятичей. Это тот громадный лес, по которому и все междуречье Оки и Волги получило характерное название Залесской земли. Мономаховичи не решились преследовать Святослава за лесом, и он двинулся дальше на север: от Козельска повернул к Дедославлю, а оттуда к Осетру, Полтеску, к Лобынску, стоявшему при впадении Протвы в Оку. Здесь-то, в Лобынске, его и застали посланцы суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, приглашавшие приехать к нему в Москву.
ПЕРВОЕ ИЗВЕСТИЕ О МОСКВЕ
Вот что рассказывает нам летопись об этом первом упоминании о Москве, в котором для нас драгоценно каждое слово: «И прислав Гюрги, и рече: «Приди ко мне, брате, в Москову». Святослав же еха к нему с детятем свои Олгом, в мале дружине, пойма с собою Володимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюргеви, и да ему пардус. И приеха по нем отець его Святослав, и тако любезно целовастася, в день пяток, на Похвалу святей Богородицы, и тако быша весели. На утрий же день повеле Гюрги устроити обед силен, и створи честь велику им, и да Святославу дары многы, с любовию, и сынови его Олгови и Володимиру Святославичю, и муже Святославле. учреди, и тако отпусти и, и обещася Гюрги сына пустити ему, яко же и створи. Святослав же оттуда возвратися к Лобыньску».
Встреча в Москве произошла в пяток на Похвалу Богородицы начавшегося 1147 г. (год тогда исчислялся с марта). В 1147 г. пятница пятой недели поста приходилась на 4 апреля. Следовательно, 4 апреля 1147 г. является юбилейной датой первого упоминания о Москве.

Москва «уже сделалась городом в древнерусском смысле этого слова, т. е. была обнесена укреплениями»
Была ли Москва в это время уже городом или нет, нельзя сказать вполне определенно, но есть кое-какие данные, которые склоняют нас к мысли, что она уже сделалась городом в древнерусском смысле этого слова, то есть была обнесена укреплениями. Ведь Москва рисуется нам крайним пунктом владений Юрия Долгорукого на западе, так же как Лобынск при устье Протвы был крайним северным городом черниговского князя Святослава Ольговича, а о Лобынске летопись говорит как о городе. Святослав едет из Лобынска в Москву как будто по знакомой местности, посылая вперед своего сына Олега с малой дружиной. Нет и намека на то, что дело происходит в какой-то отдаленной глухой стране, где опасности подстерегают путников на каждом повороте. На то же намекает и рассказ об обильном пиршестве, которым хозяин-князь угощает своих гостей, подаривших ему пардуса – живого барса или просто барсову шкуру. Видимо, в Москве можно было встретить и хорошо накормить дорогих гостей. Недаром И. Е. Забелин в своей «Истории Москвы», приводя известие 1147 г., рисует перед читателем картину богатой княжеской вотчины, к которой тянулись многие села и деревни, обслуживавшие крупное княжеское хозяйство. И трудно не согласиться с этим замечательным исследователем московской старины. «Обед силен», устроенный князем-хозяином в честь Святослава и его дружины, общее веселье, о котором также сообщает летопись, плохо вяжутся с представлениями о маленьком захолустном местечке, где нечем было угостить и встретить почетных гостей.
ПРЕДАНИЕ О БОЯРИНЕ КУЧКЕ – ПЕРВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ МОСКВЫ
Мы видели, что Москва была городом вятичей. Между тем в первом летописном известии 1147 г. Москва оказывается городом, принадлежавшим не черниговским, а ростово-суздальским князьям. Слова «…приди ко мне, брате, в Москову» не оставляют никакого сомнения в том, что Москва была городом Юрия Долгорукого. Позже Москва неизменно оказывалась во владении также ростово-суздальских, а не рязанских князей, хотя ближайшие Лопасня и Коломна до конца XIII в. остаются рязанскими волостями. Когда же Москва перестала быть городом вятичей и перешла во владение суздальских князей, земли которых были заселены кривичами, как она попала в руки Юрия Долгорукого? Позднейшие московские легенды хорошо помнили о древнем московском владельце, боярине Стефане Ивановиче Кучке, которому принадлежала Москва до Юрия Долгорукого, насильственно ею завладевшего. Было время, когда на предания о Кучке ученые смотрели как на сплошной вымысел XVII в. и не видели в нем никакого зерна достоверности. Но народные предания имеют свою основу, нередко вовсе нелегендарную. Таковы и предания о Кучке, которые будут нами кратко изложены.
Предания о Кучке дошли до нас в двух поздних повестях или сказаниях о начале Москвы. Первую из них С. К. Шамбинаго назвал хронографическою повестью, другую – новеллой по характеру их содержания. Первая повесть носит название «О зачале царствующаго великого града Москвы, како исперва зачатся». Она начинается рассуждениями о том, как древний Рим и второй Рим – Константинополь возникли на крови, а потому и Москва как третий Рим должна была создаться «…по кровопролитию же и по закланию кровей многих». Таким образом, и при основании Москва во всем была равна своим предшественникам – Риму и Константинополю. В доказательство этой мысли приводится следующий рассказ, который мы передаем в переводе на современный язык.
«В лето 6666 (т. е. в 1158 г. – М. Т. ) великий князь Юрий Владимирович шел из Киева во Владимир град к сыну своему Андрею Юрьевичу, и пришел на место, где ныне царствующий град Москва, по обеим сторонам Москвы-реки села красные. Этими селами владел тогда боярин некий богатый именем Кучка, Стефан Иванов. Тот Кучка очень возгордился и не почтил великого князя подобающею честью, какая надлежит великим князьям, а поносил его к тому же. Князь великий Юрий Владимирович, не стерпя от него хулы, повелевает того боярина схватить и смерти предать; так и было. Сыновей же его Петра и Акима, молодых и очень красивых, и единственную дочь, такую же благообразную и красивую, именем Улиту, отослал во Владимир к сыну своему, ко князю Андрею Юрьевичу. Сам же князь великий Юрий Владимирович взошел на гору и обозрел с нее очами своими туда и сюда по обе стороны Москвы-реки и за Неглинною. И возлюбил те села и повелевает на том месте вскоре сделати малый деревянный город и прозвал Москва город по имени реки, текущей под ним. И потом князь великий отходит во Владимир к сыну своему князю Андрею Боголюбскому и сочетает его браком с дочерью Кучковою, с которой князь Андрей прижил и сыновей, рано умерших. И был у него отец его князь Юрий Владимирович немало времени и заповедал сыну своему князю Андрею Боголюбскому град Москву людьми населить и распространить»). Далее говорится, что Улита и ее братья Кучковичи устроили заговор и убили Андрея Боголюбского. За смерть князя отомстил его брат Михалко Юрьевич. Он перебил убийц брата, а Улиту велел «…повесити на вратах и растреляти из многих луков». К этому рассказу прибавлен краткий летописец, оканчивающийся известием о смерти Ивана Калиты.
Прежде чем перейти к рассмотрению исторического значения повести о зачале Москвы, расскажем о содержании второй повести, которая носит все черты устного народного сказания, какой-то исторической песни, нередко сбиваясь на песенный лад, с типичными оборотами народной поэзии. Она так и начинается песенными словами: «И почему было Москве царством быть и хто то знал, что Москве государством слыти».
Храм Покрова на Нерли, построенный Андреем Боголюбским. XII в.
По словам повести, на берегах Москвы когда-то стояли «…села красны хороши» боярина Кучки и его двух сыновей-красавцев, «…и не было столь хороших во всей Руской земле». Князь Даниил велел боярину отдать своих сыновей к нему на службу. Кучка побоялся отказать и отдал их Даниилу, а тот взял их к себе во двор, пожаловал одного в стольники, а другого в чашники. Братья понравились княгине Улите Юрьевне и сделались ее любовниками. Преступная связь должна была обнаружиться, и Улита вместе с Кучковичами задумала убить князя. Братья напали на князя во время охоты, но Даниил ускакал на коне. Бросив коня, он побежал к реке Оке и стал умолять перевозчика перевезти его на другой берег реки, обещая подарить дорогой перстень. Перевозчик протянул за перстнем весло, схватил перстень, а затем оттолкнул лодку и оставил князя на берегу. В отчаянии Даниил побежал вдоль Оки. Наступил вечер «…темных осенних ночей». Не зная, куда укрыться, князь влез в сруб, где был похоронен мертвец, и заснул в срубе, забыв страх «от мертвого». Кучковичи испугались, что упустили князя живым, но злая княгиня Улита дала им любимого княжеского пса – «выжлеца» (т. е. гончую собаку). Пес стал искать хозяина и нашел дорогу к срубу: «…и забив пес главу свою в срубец, а сам весь пес в срубец не вместися». Кучковичи нашли и убили князя, а сами вернулись в Суздаль и стали жить с княгиней. Тогда верный слуга Даниила увез его малолетнего сына Ивана во Владимир к дяде Андрею Александровичу. Тот отомстил убийцам и воспитал Ивана Даниловича.
Какое же зерно истины найдем мы в обоих повествованиях?
Древнейшие летописи ничего не знают о боярине или тысяцком Кучке, но его дети Кучковичи и Петр, «зять Кучков»,- лица исторические. Они составили заговор против Андрея Боголюбского и убили его в 1174 г. Начальник же убийцам был Петр, Кучков зять, Анбал Ясин ключник, Яким Кучкович, сообщает Ипатьевская летопись. Повесть о зачале царствующего града Москвы делает Петра и Акима братьями, называет и княгиню Улиту их сестрой, а их отцом боярина Кучку. Но можно ли сомневаться в том, что боярин Кучка действительно существовал, если нам известны его зять и сын? Видимо, это была сплоченная и сильная боярская семья, настоящий род Кучковичей, оставивший по себе прочную память в народных преданиях. Еще долго после убиения Андрея Боголюбского ходили легенды о Кучковичах, записанные не позже середины XV в. Рассказывали, что Всеволод Большое Гнездо отомстил за убитого брата: «Кучковичи поймал, и в коробы саждая в озере истопил». Предание о гибели Кучковичей прочно держалось в людской памяти, и даже в XIX в. поблизости от Владимира показывали болотистые озера, по поверхности которых передвигались плавучие торфяные островки – их считали коробьями с останками проклятых Кучковичей.
Имя Кучки осталось не только в легендах, но и в названиях местностей. В XV в. в Суздальской земле упоминается волость Кучка, в Москве тогда же хорошо знали урочище Кучково поле, находившееся в районе позднейших Сретенских ворот. Но самое важное то, что еще во второй половине XII в. Москва носила двойное название: «Москва рекше Кучково». Иными словами: «Москва, то есть Кучково». Таким образом, предание XVI-XVII вв., рассказывающее об обычном московском эпизоде – преступной связи боярыни-княгини с молодыми слугами ее мужа, эпизоде, увековеченном в знаменитой песне о Ваньке-ключнике, сохранило отзвук какого-то действительного события, связанного с именем Кучки. Боярина Кучку народное предание считало первым владельцем Москвы. Обратим внимание и на то, что само название Кучково оканчивалось на «о», как обычно называют до сих пор села в Московской области, да и вообще в России, по имени их владельцев (Федорово, Иваново, Петрово и т. д.), «Села красные» боярина Кучки («Кучково село») – это историческая реальность. Они говорят нам о первом владельце Москвы, боярине Кучке, вероятно, имевшем укрепленный замок-городок, который позже заменил княжеский городок Москва. Была ли с этим связана какая-либо личная трагедия первого московского владельца Кучки или нет, этого мы достоверно не знаем, но упорная традиция о насильственном захвате Москвы суздальскими князьями, возможно, опирается на действительные факты. Напомним здесь, что Кучково поле в Москве находилось поблизости от реки Неглинки и городища Николы на Грачах. Нет ничего невероятного в том, что легендарный Кучка был одним из вятических старшин или князьков, отстаивавших свои земли от притязаний Юрия Долгорукого.
ОСНОВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДКА – ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ
О Юрии Долгоруком как основателе городка в Москве сообщается в так называемой Тверской летописи, где читаем, что в 1156 г. «…князь великий Юрий Володимерич заложи Москву на устий же Неглинны, выше реки Яузы». С. Ф. Платонов не доверяет этому известию, видя в нем позднейшее припоминание, так как в 1156 г. Юрий Долгорукий находился на юге России и не мог строить городка на Москве. Но неточная дата еще не означает, что событие приурочено неверно или выдумано. Утверждение Юрия Долгорукого в Москве было только частью его обширной деятельности по освоению западных окраин Суздальского княжества. В 1152 г. Юрий Долгорукий «…град Переяславль от Клещина перенес и созда больши стараго, и церковь в нем постави камену святаго Спаса». Новый город иногда стали называть Переславлем Новым, а старый Переславль, называвшийся Клещиным, запустел. Таким образом, и при построении Переславля происходило то же явление, что и при построении Москвы. Юрий Долгорукий основывает город на новом месте и дает ему новое название. К тому же 1152 г. относится и построение Юрьева-Польского, а в 1154 г. строится Дмитров, названный в честь Дмитрия-Всеволода, одного из сыновей Юрия Долгорукого, впоследствии Всеволода Большое Гнездо. Замечательнее всего, что в Дмитрове также сохранялось предание о построении города на новом месте и существовании до него более раннего поселения.

Георгиевский собор, построенный в г. Юрьеве-Польском Юрием Долгоруким. Рельефы 1152 г.
Нетрудно заметить и некоторое общее направление строительной деятельности Юрия Долгорукого – его стремление закрепить важные стратегические и торговые пункты. Дмитров возник там, где начинается судоходный путь по Яхроме, откуда можно было речным путем добраться до Волги. К Дмитрову сравнительно близко подходит верховье Клязьмы, важнейшего торгового пути Суздальского княжества. Та же Клязьма подходит и к Москве-реке. Почти одновременное построение Москвы и Дмитрова имело своим назначением укрепить подступы к Клязьме со стороны Яхромы и Москвы-реки.
На особое значение соседства Клязьмы с Москвой-рекой для роста нашего города давно уже обратил внимание И. Е. Забелин. Он указал на местонахождение села Мытищи, где между Яузой и Клязьмой лежит водораздельный участок, который проходили сухим волоком, перетаскивая или провозя на колесах речные суда. Между тем в Москве еще в XII в. существовало предание, что первоначальный «градец малый», приписываемый легендарному Мосоху, был поставлен на устье Яузы. По преданию, он находился там, «…идеже и днесь стоит на горе оной церковь каменная святаго и великаго мученика Никиты». Высокий холм с церковью Никиты Мученика является прекрасным памятником XVI в. и теперь возвышается над берегом реки Москвы. Этот район нашего города принадлежит к числу очень древних. Поэтому существование на устье Яузы какого-то городка в отдаленном прошлом, вероятно, предшествовавшем не только городку Юрия Долгорукого, но и «красным селам» боярина Кучки, весьма вероятно. При устье Яузы кончался путь от бассейна Клязьмы к Москве-реке. Здесь стояли речные суда, вследствие чего полузатопляемый лужок, примыкавший с востока к Китай-городу (где позже находился Воспитательный дом), даже в XV в. назывался Пристанищем, а гора на правом берегу Яузы, у церкви Николы-Воробьино, еще долго называлась Гостиной горой. Само село Мытищи в XV в. именовалось как Яузские Мытищи.
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О НАЗВАНИИ «МОСКВА»
Мы видели уже, что древняя традиция знала два названия нашего города – Москва и Кучково. Название Кучково находит себе объяснение в предании о боярине Кучке, тогда как слово Москва до сих пор остается камнем преткновения для ученых. И. Е. Забелин, следуя за З. Ходаковским, высказывал мнение, что слово Москва происходит от «мост» (имя Москва «…есть сокращение Мостковы, Мостквы, производного от слова Мост»). Однако такое объяснение слова Москва представляется во всех отношениях неубедительным. Не забудем, что Москвой с давнего времени назывался не только город, но и река, притом река большого протяжения (425 км). Спрашивается, когда же успела эта большая река получить прозвание от города, который становится известен только с середины XII в. да и в указанном столетии носил еще второе название (Кучково). Аналогичного явления, переноса названия от города к большой реке (подчеркиваем – к большой), мы на русской территории не найдем, особенно если вспомним о прочной традиции, сохранившей нам названия даже более мелких рек Московской области (Нимфа, Руза и т. д.).
Ясно, что речь должна идти об обратном – переносе названия реки на название города, чему найдем немало примеров (Полоцк от Полоты, Витебск от Видьбы и т. д.). Так объяснял название Москвы и автор сказания о зачале Москвы, говоря, что Юрий Долгорукий назвал город по имени текущей под ним реки. Прозвание города Москвой только обозначает, что он находился на берегу Москвы. Пока же расшифровки значения слова Москва не сделано, так же как не расшифровано и то, что обозначают названия остальных рек Московской области.
БЫСТРЫЙ РОСТ ГОРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.
Во второй половине XII в. Москва упоминается сравнительно редко и обычно в связи с военными событиями. Однако уже замечаются явный рост города и повышение его общего значения среди других городов Суздальской земли. Москва выступает перед нами прежде всего в качестве крайнего оплота Суздальской земли на ее западной окраине, передового пункта по отношению к Рязанской земле. Не забудем того, что обычная дорога из Рязани во Владимир шла кружным путем по Москве-реке и далее по Клязьме, так как Владимир и Рязань разделяли непроходимые леса и болота. Это своеобразное положение Москвы как перевалочного пункта между Рязанью, Черниговом и Владимиром становится все более заметным к концу XII в., когда она играет важную роль во время княжеской междоусобицы, последовавшей после смерти Андрея Боголюбского. В 1175 г. в нее пришли два князя, стремившиеся утвердиться в Суздальской земле,- Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич. Они шли из Чернигова, видимо, той же торной дорогой, по которой ранее добрался до Москвы Святослав Ольгович. Ярополк поехал из Москвы в Переславль-Залесский, Михалко – во Владимир. Здесь мы чрезвычайно наглядно видим удобное положение Москвы как конечного пункта дорог, идущих из Чернигова. Из Москвы открывался путь и во Владимир, и в Переславль, и в Великий Новгород.
Еще большее значение имела Москва для связи Владимира с Рязанью. Когда Всеволод Большое Гнездо предполагал идти походом на Чернигов, он выбрал местом сбора войска Москву (1207 г.).
Сюда пришли сыновья Всеволода – Константин, княживший в Ростове, Юрий, Ярослав и Владимир. Собралось большое войско, в котором находились не только суздальцы, ростовцы и переславцы, но и новгородцы, псковичи, ладожане и новоторжцы, пришедшие вместе с Константином. Москва представляется в этом известии как важная стратегическая база. Тут есть возможность прокормиться и отдохнуть большой рати накануне нового похода. Москва начала XIII в.- не просто пограничный пункт, а удобное место для сбора и отдыха войск, база для действий против черниговских князей.
Прибыв в Москву 19 августа 1207 г., Всеволод тщетно ожидал прихода рязанских князей. Наконец, он сам двинулся к Оке и раскинул свои шатры на ее берегах. Здесь к нему явились рязанские князья, которых Всеволод обвинил в измене и взял под арест. Отсюда он начал поход в Рязанскую землю и одержал над рязанскими князьями победу.
В свою очередь, рязанские князья, напав на земли Всеволода, обрушились на Москву и разорили ее окрестности как передового оплота Владимиро-Суздальской Руси. Поэтому Москва упоминается каждый раз, когда речь идет о борьбе владимирских и рязанских князей.
Как ни малочисленны известия о Москве XII в., но за их скудными летописными строками уже можно различить признаки ее экономического роста. Рассказывая о нападении на Москву рязанского князя Глеба в 1177 г., летописец роняет драгоценные слова: «Глеб на ту осень приеха на Московь и пожже город весь и села». Значит, Москва не просто село или неукрепленный посад, а крепость («город»), к тому же еще окруженная селами. Так складывались предпосылки к созданию особого Московского княжества, впервые появившегося в начале XIII в.
МОСКВА – СТОЛИЦА УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА
Со смертью Всеволода Большое Гнездо распалось единство Владимиро-Суздальской земли. Сыновья Всеволода разделили между собой отцовские земли: старший, Константин, сел в Ростове, Юрий – во Владимире, Ярослав – в Переславле-Залесском. Четвертым по старшинству был Владимир, ему достался Юрьев-Польской. Москва осталась в руках Юрия, княжившего во Владимире. В этом распределении земель Юрьев-Польской как будто представляется более завидным, чем Москва, но в действительности было по-иному. Князь Владимир считал себя обиженным и не захотел княжить в Юрьеве. Бросив свое княжество, он бежал сначала в Волоколамск, а оттуда в Москву – «…и седе ту в брата своего городе в Гюргове». Владимир действовал по соглашению со старшим братом Константином против Юрия и Ярослава. Когда же Константин примирился с братьями, положение Владимира стало опасным. Юрий осадил Москву и принудил непокорного младшего брата покинуть захваченный город в обмен на далекий Переяславль-Русский.
Действия Владимира отнюдь не были его внезапной авантюрой. Он опирался на самих москвичей и хотел прочно утвердиться в Москве. Пока воевали его старшие братья, он вместе с дружиной и «москвичами» подступил к Дмитрову, принадлежавшему Ярославу. Дмитровцы мужественно защищались и отбили нападение. В кратком известии об этом событии, которое помещено только в одном летописце, находим кое-какие любопытные подробности. Владимир осаждал Дмитров «…с москвичи и с дружиною своею», чуть не был застрелен осажденными и бежал, испугавшись прихода Ярослава. Тут впервые упоминаются «москвичи», и этот термин звучит многознаменательно. Конечно, под ним понимаются не только горожане, но в то же время и не одни землевладельцы со своими вооруженными отрядами. «Москвичи» – целый комплекс понятий, обозначение жителей города и прилегавшей к нему округи. Характерно и само предпочтение Москвы соседнему Юрьеву-Польскому, находившемуся в богатой сельскохозяйственной местности. Одного этого факта достаточно для того, чтобы признать, что Москва сильно подвинулась вперед и стала на пятом или шестом месте среди других городов Владимиро-Суздальского княжества, ниже Владимира, Суздаля, Ростова и Переславля, но выше Юрьева-Польского.
РАЗОРЕНИЕ МОСКВЫ ТАТАРАМИ
Еще яснее и выразительнее выступает перед нами значение Москвы как крупного населенного пункта в известиях о разорении ее татарами. Полчища Батыя вторглись в Русскую землю со стороны Рязанского княжества. Разорив Рязань, они подступили к Коломне, которую защищали в числе других воинов и москвичи. Пользуясь численным и техническим перевесом, татары разбили русское войско. Князь Всеволод Юрьевич, сын великого князя, бежал во Владимир, «а москвичи к Москве». За ними шли татары, обступившие Москву, вероятно, в январе 1237 г. Но представим здесь место сообщениям самой летописи: «Взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша и много именья вземше отъидоша».
Из этого известия узнаем о существовании в Москве не только крепости («града») и окружающих ее сел, но и о церквах и монастырях, о большом имуществе, награбленном татарами. Так можно было писать лишь о сколько-нибудь значительном городском центре. Тогда станет понятной и сцена, разыгравшаяся под стенами Владимира, осажденного татарами. Владимирцы пустили стрелы в татар, а те закричали: «Не стреляйте». Татары подъехали к воротам и показали пленного князя Владимира. Они явно били на эффект и гордились взятием крепкой Москвы.
В связи с этим не будет бесполезным вспомнить об одном замечательном месте, которое имеется в «Истории завоевателя мира» Джувейни (умер в 1282 г.). По словам Джувейни, монголы покорили русские земли до города М. к. с. (варианты – Машку, М. л. с, Микес). Жители города были «…по многочисленности своей [точно] муравьи и саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом, до того густым, что [в нем] нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили [город] с разных сторон и сперва с каждого бока устроили такую широкую дорогу, что [по ней] могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его выставили метательные орудия. Через несколько дней они оставили от этого города только имя его и нашли [там] много добычи».
Если отвлечься от сказочных подробностей о том, что всего в этом городе погибло 270 тыс. человек (у каждого убитого отрезали ухо), то в остальном рассказе не найдем ничего не достоверного и не согласного с летописью, вплоть до подробностей о глухих лесах и болотах, окружавших Москву. Не забудем и того, что весь рассказ Джувейни о походе на Булгар и Русь имеет некоторые параллели с нашей летописью. Так, слова Джувейни о силе татарского войска – «…от множества войска земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные» – находят полную параллель в нашей летописи: «…и не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревения вельблуд его, и ржания от гласа стад конь его». Еще более образы Джувейни находят сходства с выражениями русских исторических песен о татарских погромах. Поэтому сомнения издателей работы покойного В. Г. Тизенгаузена о невозможности под городом М. к. с. понимать Москву не представляются нам достаточно убедительными. В конце концов Джувейни мог записать один из рассказов о татарском нашествии на Русь, в котором могла упоминаться Москва, подобно тому, как Ипатьевская летопись сохранила рассказ об осаде татарами ничем особенно не замечательного Козельска.

«Полчища Батыя вторглись в Русскую землю со стороны Рязанского княжества»
Известие о разорении Москвы татарами дает нам еще одну любопытную деталь, указывающую на тесную связь Москвы с владимирскими князьями. Ведь московский князь Владимир был сыном великого князя владимирского Юрия Всеволодовича. В числе других отрядов Залесской земли отряд москвичей ходил против татар к Коломне, оттуда после поражения князь Всеволод Юрьевич бежал во Владимир. Татары шли буквально по пятам. Взяв Москву, они повернули прямо на Владимир, так как Москва была соединена с ним кратчайшим и удобнейшим путем по Клязьме.
МИХАИЛ ХОРОБРИТ
Близость Москвы к Владимиру объясняет нам попытку нового московского князя Михаила. Ярославича Хоробрита захватить в свои руки Владимирское княжение. Михаил был сыном Ярослава Всеволодовича, братом Александра Невского. В некоторых источниках он именуется как «князь Михаила Ярославич Московский». Есть предположение, что Москва досталась ему в княжение по отцовскому завещанию, так как по смерти Ярослава брат его, новый владимирский великий князь Святослав Всеволодович, посадил по городам своих племянников, «яко же уряди» князь великий Ярослав Всеволодович. Поколенные росписи сыновей Ярослава по-разному показывают старшинство Михаила. Одни (роспись, приложенная к истории С. М. Соловьева) делают его самым младшим в потомстве Ярослава, другие показывают его тотчас же после Александра Невского. С последним, видимо, и надо согласиться, иначе мы должны были бы считать, что Михаил совершал свои подвиги чуть ли не малолетним. О его характере говорит прозвание Хоробрит от древнерусского слова «хоробровати» – храбриться. Соответствующую параллель находим в «Слове Даниила Заточника», памятнике того же XIII в.: «…лучше един мудр десяти хоробрующих без ума».
Жизнь Михаила Хоробрита действительно оправдывает насмешливую фразу Заточника о хоробрующих без ума. Опираясь на Москву, Михаил выгнал из Владимира своего слабого дядю Святослава Всеволодовича и захватил в свои руки великое княжение, но в том же 1248 г. погиб в битве с литовцами и был похоронен во владимирском Успенском соборе епископом Кириллом.
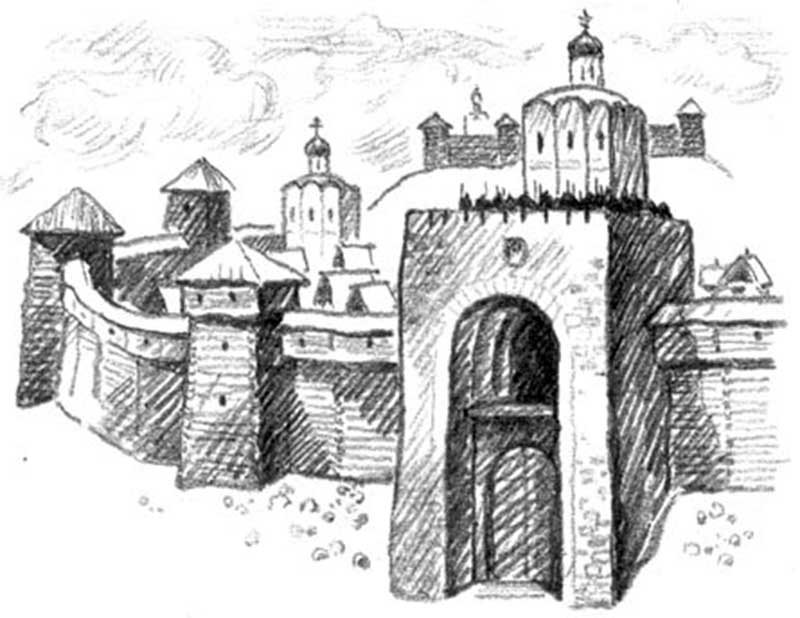
Город Владимир. XII в.
Кратковременное княжение Михаила в Москве бросает особый свет на положение этого города среди других русских городов середины XIII в. Михаил Хоробрит первый показал, что ближайшая дорога к владимирскому великокняжескому столу лежит из Москвы, которая являлась ключом к бассейну Клязьмы с запада.
НАЧАЛО КНЯЖЕНИЯ ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
После сообщения о смерти Михаила Хоробрита известия о Москве надолго пропадают со страниц летописи, появляясь вновь только под 1282 г. в связи с рассказом о смутах между великим князем Дмитрием Александровичем и его братом Андреем. В Переславль, где засел Дмитрий, пришли тверичи, москвичи и новгородцы. Во главе москвичей стоял младший из сыновей Александра Невского князь Даниил. Никоновская летопись называет его великим князем московским, но более ранние летописи говорят кратко: «Московской Данило Александровичь… с москвичи». Из этих слов не вполне ясно, о чем идет речь, – пытался ли Даниил утвердиться в Москве с помощью москвичей, желавших иметь особого князя, или он уже в 1282 г. был московским князем. Дело в том, что у нас есть и другое свидетельство, по которому Даниил утвердился в Москве значительно позже. Так, Супрасльская летопись, сообщая о кончине Даниила, добавляет, что он «княжив лет 11» – слова, пропущенные в других летописях.
Поскольку мы знаем, что Даниил умер в 1303 г., началом его московского княжения надо положить 1292 г. Имеется и еще одно свидетельство, помещенное в Степенной книге. По нему Даниил получил в наследство от отца Москву, где и возрос. Это свидетельство принято нашими историками как вполне достоверное, хотя оно является только отголоском поздних преданий о Данииле и Москве XIII в. При Иване Грозном, когда была составлена Степенная книга, т. е. почти через три столетия после смерти основателя династии московских князей, о Данииле писали только на основании преданий и домыслов. Единственным ценным указанием жития можно считать свидетельство, что Даниилу было два года, когда умер его отец Александр Невский. Следовательно, Даниил родился около 1261 г.
Из противоречивых показаний летописей как будто можно сделать одно заключение – признать ошибкой или данные Супрасльской летописи, или противоречащее ей свидетельство Никоновской летописи, называющей Даниила московским князем уже в 1282 г. Но возможно и другое предположение – признание ошибки в дате, поставленной в Супрасльской летописи, особенно ценной для истории ранней Москвы. Вместо цифры 11 в ней могло стоять 21, так как буквы «i» для обозначения 10 и «к» для обозначения 20 очень близки по написанию. Тогда окажется, что Даниил сделался московским князем в 1282 г.
Этот год был ознаменован междоусобной борьбой между сыновьями Александра Невского – великим князем Дмитрием и его братом Андреем Городецким. Андрей привел с собой татар, которые страшно разорили окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева и Переславля. Так перед нами обозначается та дорога, по которой шли к Переславлю, стольному городу Дмитрия, татары. Москва оказалась в стороне от этой дороги, может быть, потому, что Даниил удачно воспользовался смутами, чтобы с помощью татар утвердиться на московском княжении и видимой покорностью избежать их нападения. Поэтому он и оказался под Переславлем вместе с москвичами, пришедшими по ханскому требованию воевать против Дмитрия Александровича.
КНЯЖЕНИЕ ДАНИИЛА В МОСКВЕ
Новое известие о Данииле и о Москве прочтем в летописи только под 1293 г. Это известие также говорит о княжеской усобице, результатом которой было появление в Северной Руси татарского царевича Дуденя (Туденя) и разорение 14 русских городов. В числе их была и Москва, так как на этот раз Даниил поддерживал великого князя Дмитрия Александровича, вновь вызвавшего ханский гнев. Татары пришли к Москве от Переславля-Залесского «…и московского Даниила обольстиша» (т. е. обманули), ворвались в Москву и разорили ее с окружающими селами – «…и взяша Москву всю, и волости и села».
В словах «…и московского Даниила обольстиша» чувствуется какое-то удивление перед тем, что удалось обмануть даже опытного Даниила Московского. Вскоре после Дуденеевой рати Дмитрий умер. Из сыновей Александра Невского остались в живых только Андрей и Даниил. С этого времени московский князь начинает проявлять большую политическую активность.
В 1297 г. на княжеском съезде во Владимире в присутствии ханского посла Даниил выступал совместно с тверским князем Михаилом Ярославичем и переславским князем Иваном Дмитриевичем. Он стоял как бы во главе княжеской группировки, боровшейся против Андрея Александровича и его союзников «… и за малым упасл бог кровопролитья, мало бою не было, и поделившеся княжением, и разъехашася кождо в свояси». Москва со своим князем Даниилом Александровичем вступает в ранг крупных русских городов. Московский князь делается политической фигурой, что тотчас же сказывается на расстановке княжеских сил.
В 1301 г. князья вновь собрались на съезд в Дмитрове. Летопись на этот раз упоминает только 4 князей: великого князя Андрея, князей тверского, московского и переславского. Между ними был заключен мир. Только Иван Дмитриевич Переславский не договорился с Михаилом Тверским. Вскоре Иван умер и благословил на свое место Даниила Московского в Переславле княжить, «…того бо любляше паче инех». Так владения московского князя сразу сильно расширились. Вместе с Переславлем к московским князьям, возможно, отошел и Дмитров, имевший важное торговое и стратегическое значение для Москвы.
Несколько раньше Даниил ходил войной на Рязанскую землю и сражался под самой Рязанью (Переяславлем-Рязанским). Здесь он захватил в плен князя Константина Рязанского «некоею хитростью» и привел его в Москву. Следствием этого похода было присоединение к Московскому княжеству Коломны, лежащей при впадении Москвы-реки в Оку. В руках московских князей оказались не только Москва, но и Переславль и Коломна.
Даниил умер 5 марта 1303 г. как «внук Ярославль, правнук великого Всеволода», наследник великих князей владимирских. С его смертью для Москвы кончился период скромного существования в качестве второстепенного удельного города, началось возвышение Москвы сперва как центра Северо-Восточной Руси, а потом как центра всей России.

ГЛАВА II. ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ МОСКВА
КНЯЖЕНИЕ ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА
Даниил Александрович умер рано, всего 40 с лишним лет от роду. Московские князья XIV в. вообще были недолговечны и обычно умирали в цветущем возрасте. Юрий Данилович умер 45 лет. Семен Гордый, Иван Иванович и Дмитрий Донской скончались, не достигнув даже 40 лет, и только Ивана Даниловича Калиту смерть застала на шестом десятке лет.
У Даниила было пять сыновей: Юрий, Александр, Борис, Иван, Афанасий. На первых порах братья держались дружно и общими силами боролись с неприятелями, «…князь Юрьи Даниловичь Московскый с братьею своею», как их называет летописец. Позже узнаем, что Даниловичи сидели в Москве большим родом и воевали с тверскими князьями. Впрочем, согласие между ними продолжалось недолго. В 1307 г. князья Александр и Борис отъехали в Тверь, по-видимому, не поделив отцовского наследства. На следующий год Александр умер, а Борис вскоре вернулся в Москву и снова сражался на стороне брата.
Юрий Данилович был еще молодым, когда сделался московским князем. Ему исполнилось только 22 года. С самого начала он показал себя способным и ловким политиком. Юрий охотно действовал силой там, где нельзя было поступить иначе, но в других случаях выступал умелым дипломатом. К тому же он обладал способностями привлекать к себе симпатии населения. В день отцовской смерти Юрий находился в Переславле, и переславцы так боялись потерять своего князя, что «не пустиша его и на погребение отне». Юрий пользовался привязанностью и москвичей, оплакавших его раннюю кончину, «весь народ плачем великым», как пишет об этом не московский, а новгородский летописец, следовательно, автор беспристрастный, не имевший непосредственных побуждений сочинять неумеренную похвалу в честь московского князя.
Присоединение Переславля к Москве резко изменило равновесие сил в Северо-Восточной Руси в пользу московских князей. Недаром же Переславль и в XVI в. занимал особое место среди владений московских царей. На торжественных обедах по случаю венчания на великое княжение Дмитрия подавались переславские сельди, «…как думают, потому,- пишет посол австрийского императора,- что Переяславль никогда не отделялся от Московии или монархии». Переславцы не только не сопротивлялись москвичам, но их поддерживали. В 1306 г. князь Иван Данилович разбил тверского боярина Акинфа с помощью переславской рати, на соединение с которой приспела московская рать. На поле битвы пал сам боярин Акинф, и это «убиение Акинфово» надолго запомнилось московскими родословцами.
Юрий Данилович решил во что бы то ни стало удержать Переславль за собой. В 1304 г. на съезде в Переславле, куда прибыли князья и митрополит Максим, читались ханские ярлыки. Однако Юрий не побоялся даже Золотой Орды и не уступил Переславля. С проницательностью настоящего политика он понимал, что Москва может считаться безопасной от нападений только тогда, когда ей будут подвластны ближайшие стратегические пункты. Чтобы прибрать их к рукам, московский князь не брезговал никакими средствами. Сразу же после смерти отца Юрий захватил Можайск и взял в плен можайского князя Святослава. Тем самым московские князья получили в свои руки верхнее течение Москвы-реки и утвердились в непосредственном соседстве со Смоленской землей.
За краткими и скудными летописными заметками перед нами раскрывается образ смелого и хищного князя, умеющего пользоваться обстоятельствами и не очень стесняющегося в выборе средств. О мрачной трагедии говорят краткие слова летописи: «Toe же зимы князь Юрьи князя Костянтина убил Рязанского». Смерть рязанского князя окончательно закрепила за московским князем такой важный город, как Коломна, при впадении Москвы-реки в Оку. Весь бассейн Москвы-реки оказался под контролем московских князей, от Можайска до Коломны. Юрий проявлял необыкновенную подвижность и не боялся трудностей и опасностей. Враги подстроили ему засаду в Суздале. «Переимали, да не изнимали»,- торжествует по этому поводу современник, благожелательно настроенный к московскому князю. Коварство, измена, засады, внезапные набеги, все черты рыцарски разбойничьих приемов борьбы, столь характерные для средневековых западноевропейских баронов, бросаются нам в глаза при чтении летописных текстов, относящихся к княжению Юрия Даниловича. Впрочем, таковыми же были и его враги, тверские князья, отравившие («зельем уморена бысть») взятую ими в плен жену Юрия.
Главная цель, которой добивался Юрий, было великое княжение. Соперничающие князья отправились в Орду, откуда вернулся победителем тверской князь Михаил Ярославич. После этого Михаил дважды ходил с войском на московского князя. Первый раз он приходил «ратию к Москве» в 1307 г. Во время второго похода под самой Москвой произошел бой (25 августа 1308 г.), но попытка тверичей взять Москву не увенчалась успехом («града не взяша»). Московский Кремль и на этот раз оказался недоступным для неприятелей, как неоднократно случалось и раньше, и позже этого.
В борьбе с Тверью московский князь опирался на золотоордынскую помощь. Он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека, переименованной в христианстве в Агафию. Тем самым Юрий Данилович сделался своим человеком в ханской ставке. Между тверским и московским князьями завязалась ожесточенная борьба. В 1317 г. московский князь, поддержанный татарской силой во главе с Ковгадыем, подступил к Твери «ратью великою». При Бортеневе, в 40 км от Твери, московские и татарские полки были наголову разбиты. В плен попали брат московского князя Борис и его жена Кончака. Юрий бежал в Новгород.
Сношения московского князя с Новгородом начались очень рано. В 1314 г. Юрий приехал в Новгород вместе с младшим братом Афанасием «…и ради быша новгородци своему хотению». С этого времени начинается постоянная дружба между новгородцами и Юрием. Теперь он снова нашел поддержку – «…и идоша с ним весь Новгород и Псков». Богатый Новгород был выгодным союзником для старшего Даниловича, особенно тогда, когда шла речь о поездке в Орду. Там русские князья должны были не скупиться на деньги, потому что татары были «…не сыти сущи мздоимства». В сентябре 1318 г. Михаил Ярославич погиб в Орде, и великое княжение перешло московскому князю. Юрий стал не только московским князем, но и великим князем всей Руси. В 1322 г. он в течение месяца осаждал Выборг. На следующий год Юрий вместе с новгородцами построил каменный город Ореховец или Орешек, ныне Шлиссельбург. Тогда же Новгород заключил со Швецией известный Ореховецкий договор, определивший шведские и русские границы. Юрий выступал в этом договоре уже не только как новгородский, но и как русский великий князь, называя шведского короля Магнуса своим братом, «князем свейскым». Смерть Юрия в Орде (1325 г.) закончила длительный период борьбы за великое княжение. Оно ненадолго перешло к тверскому князю Александру Михайловичу. На место непоседливого и воинственного Юрия на московский стол сел его младший брат Иван Данилович. Из пяти Даниловичей в живых остался один только Иван, остальные умерли бездетными. Благодаря счастливому стечению обстоятельств в руках Ивана Даниловича оказалась вся московская «отчина», он был единственным наследником отца и братьев.
ИВАН КАЛИТА В ПРЕДАНИЯХ
Имя Ивана Даниловича Калиты навеки осталось в памяти москвичей как имя князя-строителя, который первым украсил и расширил Москву. Современники не обвиняют Ивана в убийстве своих соперников, как обвиняли старшего Даниловича, но память о нем быстро начала обрастать различными легендами. Иван Данилович – первый из московских князей, получивший прозвище, и притом очень характерное. Калита – называли его впоследствии москвичи, и, может быть, это прозвище восходит ко времени его владельца, а не является позднейшим домыслом. Калита – кожаная сумка или кошелек.
В прозвище московского князя порой готовы видеть какую-то иронию. Мошна – вот что могли сказать современники или ближайшие потомки об Иване Даниловиче, как полунасмешливо-полузавистливо отзываются люди о богатых и одновременно скопидомных хозяевах. Но прозвищу московского князя придавалась и более благоприятная окраска, изображающая его благотворителем, всегда носившим сумку с деньгами для раздачи бедным. Такое объяснение прозвища Калиты представляется на первый взгляд только благочестивой легендой, однако сохранился любопытный отрывок, рассказывающий о щедрости Ивана Даниловича.
«В лето 6837 (т. е. в 1329 г. – М. Т. ),- говорится в нашем отрывке,- князь великий Иван Данилович ходил на миру в Великий Новгород и стоял в Торжке. И пришли к нему святого Спаса притворяне с чашею, 12 мужей на пир. И воскликнули 12 мужей, приворяне святого Спаса: «Бог дай многа лета великому князю Ивану Даниловичу всея Руси. Напой, накорми нищих своих». И князь великий спросил бояр и старых людей новоторжцев: «Что это за люди пришли ко мне?» И сказали ему мужи новоторожцы: «Это, господин, притворяне святого Спаса, а ту чашу дали им 40 калик, пришедших из Иерусалима». И князь великий посмотрел у них чашу, поставил ее на свое темя и сказал: «Что, братья, возьмете у меня вкладом в эту чашу?» Притворяне отвечали: «Чем нас пожалуешь, то и возьмем». И князь великий дал им гривну новую вклада: «А ходите ко мне во всякую неделю и берите у меня две чаши пива, третью – меду. Также ходите к наместникам моим и к посадникам и по свадьбам, а берите себе три чаши пива».
Как часто изображали Ивана Калиту в виде умного, но расчетливого и скупого домохозяина, и как живо возникает перед нами совсем иной образ щедрого и даже несколько впечатлительного князя. Древнюю чашу, которую по тому же сказанию принесли из Иерусалима калики перехожие, делают предметом почитания, и Калита благоговейно ставит ее себе на голову. Сцена происходит на пиру в присутствии бояр и новоторжцев. А что перед нами не только легенда, а отголосок действительности XIV в., говорит одна статья в требнике, кончающаяся возгласом притворяй святого Спаса: «Дай бог и на многа лета великому князю Ивану Даниловичу всея Руси».
Рассказы о щедрости Ивана Калиты к нищим ходили и среди московского населения. Любопытнейшее «Видение о великом князе Иване Даниловиче» читаем мы в житии Пафнутия Боровского, написанном в XVI в. Одна черница видела в раю князя великого Ивана Даниловича Московского, «…нарицаху его Калитою сего ради: Бе бо милостив зело и ношаше при поясе калиту всегда насыпану сребряниць и куда шествуя даяше нищим сколка вымется. Един же от нищих взем от него милостыню, и помала том же прииде. Он же вторицею даст ему, и пакы от инуду зашед просяще. Он же и третицею даст ему рек: «Возми, несытые зеницы». Отвещав же рече ему той: «Ты несытый зеницы, и зде царствуеши, и тамо хошещи царствовати». И от сего яве есть, яко от Бога послан бяше, искушая его и извещая ему, яко по Бозе бяше дело его еже творит».
«ТИШИНА ВЕЛИКА» ДЛЯ МОСКВЫ
Княжение Ивана Калиты отличалось одной особенностью, драгоценной для москвичей. «Сел великий князь Иван Данилович на великом княжении всея Руси, – пишет летописец,- и была оттоле тишина великая на 40 лет, и перестали татары воевать Русскую землю и убивать християн, и отдохнули и опочили християне от великой истомы и многой тягости, от насилья татарского, и была оттоле тишина велия по всей земли». Запись сделана спустя много лет после смерти Калиты, княжившего всего 15 лет, по крайней мере спустя четверть века после его смерти.
Но послушаем отзыв современника, написанный тотчас же после смерти Ивана Калиты и, пожалуй, еще более восторженный. «Многогрешные» дьяки, Мелентий и Прокоша, переписали в 1339 г. в Москве Евангелие для церкви или монастыря Богородицы на Северной Двине. Они работали по заказу чернеца Анания. «О сем бо князи великом Иване, – пишут дьяки, – пророк Езекий глаголет: «В последнее время в апустевшей земли на западе востанет цесарь правду любяй; суд не по мзде судяй, ни в поношение поганым странам; при сем будет тишина велья в Руской земли и восияет в дни его правда», яко же и бысть при его цесарстве. Сий бо князь великой Иван, имевшей правый суд паче меры… безбожным ересям преставшим при его державе, многим книгам написаным его повелением, ревнуя правоверному цесарю греческому Мануилу, любяй святительскый сан». Писцы так и написали в «апустевшей» земле, дав первый случай московского аканья в наших письменных источниках.

«Имя Ивана Даниловича Калиты навеки осталось в памяти москвичей как имя князя-строителя»
Порой деятельность Калиты представляется нам в темных красках. Он считается главным вдохновителем разгрома Твери, защищавшей права и достоинство русских людей против татарских насильников. Однако современники по-своему оценивали деятельность Калиты. Они видели в нем прямого продолжателя политики Александра Невского, добивавшегося соглашения с Золотой Ордой ради Русской земли, еще не готовой к решительной борьбе с татарами, которую вскоре поведет с собой на Куликово поле Дмитрий Донской, внук Калиты. Современники видели разорение Русской земли, пожары и разрушения Твери, Торжка, Кашина и других городов, бесчисленное количество пленных, угоняемых в татарское рабство. И вот среди разрушенных городов «точию соблюде и заступи господь бог князя Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину». При нем Москва сделалась городом славным «кротостью», свободным от непрерывной угрозы татарских нашествий, а это должно было чрезвычайно способствовать росту и богатству города. Преобладание Москвы над Тверью, чего так добивался Юрий, было окончательно достигнуто при его младшем брате. И замечательнее всего, что оценка деятельности Калиты у его cовременников сходится с тем, что говорит такой проницательный историк, каким был К. Маркс. По его словам, Калита превратил хана Золотой Орды «в послушное орудие в своих руках, посредством которого он освобождается от опаснейших соперников и одолевает любое препятствие, встающее на победоносном шествии его к узурпации власти».
Великое княжение ненадолго удержалось у тверского князя. Александр Михайлович встал во главе тверичей, которые расправились с татарами, насильничавшими в Твери. В наказание татарское войско опустошило Тверь и заставило Александра бежать в Псков. «Великый же Спас милостивый человеколюбец господь своею милостию заступил благовернаго князя великаго Ивана Даниловича и его град Москву и всю его отчину от иноплеменник, поганых татар». Ценой разорения Твери на этот раз была спасена Москва. Благосклонный к московскому князю, летописец умалчивает, что Тверь разорили с помощью Калиты, ходившего в Орду и вернувшегося с большой татарской ратью. В 1328 г. Иван Данилович снова ходил в Орду и вернулся с ярлыком на великое княжение, оказавшимся в руках, умевших крепко держать полученное добро. Москва прочно сделалась столицей Северо-Восточной Руси.

По отношению к Орде московский князь вел традиционную политику отца и деда. В Орде он неизменно встречал большие почести от хана Узбека, приходившегося ему свояком. Узбек прислушивался к мнению Ивана Даниловича, умевшего направлять события в свою пользу. В 1339 г. «по думе его» хан вызвал в Орду русских князей, и в том числе Александра Тверского, вскоре подвергнутого мучительной казни. Калита хорошо знал хищные золотоордынские порядки, тщательно собирал с русских земель «выход» и готов был идти навстречу денежным домогательствам татар с тем, чтобы собирать в их пользу еще дополнительный запрос. Но напрасно видеть в Калите какого-то рьяного низкопоклонника перед Ордой. Самый тяжелый денежный побор был все-таки легче опустошительных татарских набегов. Во всяком случае, Москва пользовалась при Калите полным и невиданным до него покоем: «…и бысть оттоле тишина велика на 40 лет, и престаша погании воевати Русскую землю и закалати христиан, и отдохнуша и упочинуша христиане от великыя истомы и многыя тягости и от насилиа татарьского».
Иван Данилович считал себя уже не только московским, но и великим князем «всея Руси». Он властно диктовал свои условия Новгороду и не склонялся на мольбы новгородцев о мире. Заняв Торжок, он разорил новгородские земли в течение нескольких зимних месяцев. Даже далекий Псков испытал на себе тяжелую руку великого князя, добившегося временного изгнания из него Александра Михайловича Тверского. Владения московского князя стали заметно продвигаться на Дальний Север. В 1337 г. московская рать ходила в область Северной Двины, принадлежавшую Новгороду. В то время Двинская область осталась в новгородском владении, но Иван Данилович уже распоряжался на Печере и жаловал «…сокольников печерских, кто ходит на Печеру», различными льготами.
Калита заложил основы могущества Москвы. Он первый начал объединять вокруг нее русские земли. После долгого промежутка времени он был первым авторитетным князем, влияние которого распространилось на всю Северо-Восточную Русь.
МОСКВА ДЕЛАЕТСЯ ЦЕРКОВНЫМ ЦЕНТРОМ ВСЕЙ РУСИ
При Калите Москва стала духовным центром всей Русской земли, постоянным местопребыванием русских митрополитов. Трудно переоценить политическое значение переноса митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Старая традиция связывала для русских людей представления о «царствующем городе» с тем местом, где жили и государь и митрополит. Пышные богослужения по случаю поставления в епископы, когда в столице собирались высшие иерархи из других городов, постоянные сношения с Константинополем и с княжескими столицами на Руси, встречи и проводы митрополитов и епископов, одним словом, блестящие церковные церемонии, до которых были падки средневековые люди, сделались достоянием Москвы. Можно было не признавать притязаний московского князя, но нельзя было под страхом отлучения игнорировать митрополита.
Москва получила неоспоримые преимущества перед всеми другими городами, и московская епархия поднялась неизмеримо выше всех остальных. Митрополит держал в своих руках право поставления епископов и суда над ними и нередко им пользовался, силу его духовной власти испытали даже иерархи таких крупных городов, как Новгород и Тверь. Уже в 1325 г. новгородский кандидат Моисей ездил в Москву к митрополиту Петру ставиться на архиепископию и присутствовал на погребении Юрия Даниловича вместе с тремя другими епископами. Легко представить себе, какие большие средства стекались в Москву вследствие приезда видных духовных лиц, ибо устройство церковных дел обходилось недешево.
Многочисленные политические нити сходились ко двору митрополитов, которые имели своими хозяевами в конечном итоге московских князей. Москва связывалась с Константинополем, а через его посредство с южнославянскими землями. Спор между Москвой и Тверью за преобладание был решен в пользу Москвы уже тогда, когда преемник Петра, митрополит Феогност, родом грек, окончательно утвердил в ней свое местопребывание.
По каким же причинам митрополиты выбрали своей резиденцией Москву? Любопытные соображения по этому поводу высказал Пл. Соколов, по мнению которого московские князья предоставили митрополитам особо важные льготы по сравнению с тем, что получали епископы в других княжествах. Льготное положение митрополичьего дома с его многочисленными боярами и слугами действительно создавало для митрополитов ряд преимуществ.

Успенский собор во Владимире. XIII в.
Но дело было не только в одних льготах, а в том, что московские князья обладали достаточной реальной силой, чтобы поддержать угодных для них кандидатов на митрополичий престол. Немалое значение имело центральное положение Москвы и относительное удобство сношений с Константинополем, как это будет показано в главе о торговле. Наконец, одним из мотивов переноса кафедры митрополитов именно в Москву являлось отсутствие в ней своих епископов. Митрополит «всея Руси» не задевал в Москве ничьих церковных интересов. Иван Калита и митрополит Петр положили начало тому своеобразному соединению светской и духовной власти, которое стало характерно для Москвы допетровского времени. Двор великого князя и двор митрополита помещались в непосредственном соседстве; светская власть нашла себе духовную опору, поддерживая, в свою очередь, всей своей гражданской мощью главу русской церкви – митрополита. Так, маленький Кремль Калиты уже вместил в себя зародыши другого, более позднего «царствующего града Москвы».
Утверждение митрополичьего престола в Москве было ударом по тверским князьям, претендовавшим на первенствующую роль среди русских князей. Поэтому ожесточенная борьба между Тверью и Москвой за преобладание сопровождалась такой же борьбой за митрополичий престол.
В то время как Юрий Данилович тягался в Орде за великое княжение с Михаилом Ярославичем, монах одного из тверских монастырей по имени Акиндин подал константинопольскому патриарху жалобу на митрополита Петра. Акиндин был только орудием в руках тверского князя, но для митрополита Петра возникла явная опасность низвержения с митрополичьего стола, так как патриарх уже обещал Михаилу Ярославичу поставить в митрополиты «…кого восхочет боголюбство твое». Однако низвержение митрополита задевало интересы многочисленного духовенства, трогать которое избегали даже золотоордынские ханы. Кроме того, обвинение Петра в симонии, в том, что он возводил в духовный сан за деньги, едва ли могло сильно скомпрометировать Петра. Ведь покупка и продажа церковных должностей в средние века – явления постоянные. В самой Византии они практиковались еще больше, чем на Руси. Петр же был политиком настойчивым и смелым; найдя поддержку у московских князей, он сблизился с ними и не забыл оказанных ему услуг. Петр подолгу оставался жить в Москве, где умер и был похоронен (20 декабря 1326 г.). Московские князья по-своему воспользовались его смертью и добились от константинопольского патриарха канонизации Петра, сделавшегося первым «московским и всея Руси чудотворцем». Преемник Петра грек Феогност окончательно утвердил митрополичье место за Москвой, которая с этого времени сделалась гражданской и церковной столицей Руси.
О близости Петра к Ивану Даниловичу уже в XV в. рассказывали легенды, имевшие некоторое основание в действительности. В житии Пафнутия Боровского находим такой рассказ: «О видении сна великого князя Ивана Даниловича. Той же благочестивый великый князь Иван Даниловичь виде сон. Мняшесь ему зрети, яко гора бе велика, а на верх ея снег лежаше, и зрящу ему, абие истояв снег и згыбе. Возвести же видение преосвященному Петру митрополиту всея Русии. Он же рече ему: «Чадо, гора аз смиренный. Преж тебе мне есть отити от жизни сея, а тебе по мне». И первие преосвещенный Петр митрополит всея Руси преставися, потом князь великый Иван Данилович преставись».
Поддержка церкви обеспечила московскому князю преобладание над другими русскими князьями. С необыкновенной силой эта поддержка сказалась в 1329 г., когда Калита ходил выгонять из Пскова тверского князя Александра Михайловича. Калита прибегнул к помощи митрополита Феогноста, который послал «проклятье и отлучение от церкви на князя Александра и на псковичь». Православная церковь использовала любимое средство римских пап, столь часто издававших интердикты, или отлучения от церкви. Оно было грозным оружием в руках духовенства, действовавшим как удар молота на слабые души суеверных людей: закрывались церкви, прекращалось богослужение, переставали крестить младенцев, венчать вступающих в брак, даже отпевать покойников. Страх отлучения заставил Александра Михайловича покинуть Псков, чтобы проклятье не легло на город. Так пишет летописец, симпатизирующий тверскому князю. Новгородский автор говорит проще: «Псковичи выпроводиша князя Олександра от себе».
СИМЕОН ГОРДЫЙ
Иван Данилович Калита умер 31 марта 1340 г. и на следующий день был погребен в Архангельском соборе, «…и плакашася над ним князи, и бояре, и вельможи, и вси мужи москвичи, игумени, и попы, и диакони, и черници, и вси народи, и весь мир христианьскый, и вся земля Рускаа, оставше своего господаря». Москвич – очевидец погребения великого князя – так и выступает за этими строками, полными привязанности к умершему.
У Калиты было три сына (Симеон, Иван, Андрей) и две дочери (Марья и Федосья). В завещании великий князь разделил свою отчину между тремя сыновьями. Старший Симеон получил Коломну и Можайск со многими другими волостями, Иван – Звенигород и Рузу, Андрей – Серпухов. Для вдовой княгини Ульяны (вторая жена Калиты) вместе с меньшими его детьми, дочерьми Марьей и Федосьей, выделили особые волости. Когда впоследствии Симеон умер бездетным, Иван Иванович объединил в своих руках большую часть владений отца, но Серпухов остался удельным княжеством и целое столетие держался в роде Андрея Ивановича, составив особый Серпуховской удел. «Отчину свою Москву» Калита передал во владение всех трех братьев, которые после похорон заключили между собой договор и в подтверждение его целовали друг другу крест у отцовского гроба. Каждый из братьев держал в Москве своих наместников-третников, ведавших третьей долей городских доходов.
Старший из Калитина потомства, Симеон, сделался самостоятельным князем в самую цветущую пору жизни. Он родился 7 сентября 1316 г. – в день св. Созонта. Поэтому Симеон и называет себя Созонтом в своем завещании. Это было его церковное, а вовсе не монашеское имя, как неверно пишут в ряде работ. В год отцовской смерти Симеону было всего 25 лет. По характеру он мало напоминал сдержанного и осторожного Калиту. Необузданностью и смелостью Симеон скорее походил на дядю Юрия Даниловича. Поэтому ему и дали прозвище Гордого. Если с трудом верится в правдивость рассказа о том, что Симеон заставил новгородских посадников и тысяцких вымаливать у него мир, стоя босыми на коленях, то имеются и другие известия, показывающие своеволие московского князя. Семейная жизнь Симеона была ознаменована неслыханным среди русских князей скандалом. Похоронив первую жену, литовскую княжну Айгусту, названную в крещении Анастасией, великий князь женился на Евпраксии, дочери одного из мелких смоленских князей. На следующий год Симеон Иванович отослал вторую жену на Волок к отцу и через некоторое время женился на тверской княжне Марии.

Крестоносцы. Оружие и доспехи
Поступок московского князя не вызвал особого осуждения у наших летописцев при всей своей необычности и дерзости, хотя разводы в Древней Руси были явлением исключительным и строго запрещались церковью. Даже в XVII в. только первый брак считался полностью законным. Поразительнее всего, что подобный акт произвола не вызвал резких протестов со стороны митрополита Феогноста, вероятно потому, что митрополит, как и константинопольская патриархия, был задобрен большими денежными подарками. Вскоре после третьей женитьбы Симеон и митрополит Феогност послали в Царьград «о благословении». Нечего сомневаться в том, что патриарх освятил своим авторитетом, купленным русскими деньгами, явное беззаконие. По-иному к этому отнеслись русские люди, среди которых ходили разные слухи. Рассказывали, что «…великую княгиню на свадьбе испортили; ляжет с великим князем, а она ему покажется мертвец». Приведенное известие говорит о каком-то отвращении, быстро внушенном молодому Симеону его второй женой. Конечно, такая версия не могла быть приемлемой для официальных московских кругов. Сложилась легенда о бесплодии Евпраксии в течение двух лет как о причине развода. Дерзость и своеволие Симеона сказались и в его дальнейших поступках. Отослав жену обратно к ее отцу на Волок, он велел ее выдать замуж, и опозоренная Евпраксия сделалась женой князя Федора Красного и родоначальницей князей Фоминских.
В начале мая 1340 г. Симеон Иванович поехал в Орду вместе с братьями и вернулся осенью с ярлыком на великое княжение «…и вси князи Русстии даны под руце его». На этот раз другие князья даже не пытались оспаривать прав московского князя, в распоряжении которого была богатая казна. На праздник Покрова (1 октября) он торжественно сел на великое княжение в Успенском соборе во Владимире, показывая свою преемственность от старых владимирских князей. Нам неизвестен обряд, возводивший князей на княжеский стол, но о существовании такого обряда можно предполагать. В Пскове князьям вручали меч Всеволода-Гавриила и сажали на трон («стол»), во Владимире великих князей сажали у золотых дверей Успенского собора.
Симеон Иванович с самого начала своего княжения держался властно. Зимой 1341 г. «…бысть велик съезд на Москве всем князем русским». Присутствовали: Константин Суздальский, Константин Ростовский, Василий Ярославский «и все князи с ними…». Здесь же был и митрополит Феогност. Княжеский съезд решал важный вопрос о походе на Новгород. Симеон Иванович занял Торжок и принудил Великий Новгород к миру и уплате большой контрибуции. Он последовательно проводил политику отца и не только крепко держал в руках власть над своими собственными землями, но и распространял свое влияние на другие княжества Северо-Восточной Руси. Обстоятельства ему благоприятствовали. В Твери шли междоусобицы между членами княжеского дома. Симеон пользовался всяким случаем, чтобы вмешиваться в тверские дела. Зависимость Твери от Москвы в это время доказывается тем, что к Симеону должен был обратиться литовский великий князь Ольгерд с просьбой выдать за него замуж тверскую княжну Ульяну, жившую в Москве у своей сестры, великой княгини. Новый тверской князь Василий Михайлович женил своего сына на дочери Симеона Ивановича. Другие князья Северо-Восточной Руси еще менее имели возможность выступать против великого князя. Что касается церкви, то митрополит Феогност жил в полном согласии с Симеоном и, как мы видели, не возражал против его своевольного развода со второй женой.
НАЧАЛО БОРЬБЫ С ЛИТВОЮ
На печатях Симеона Гордого впервые читаем: «Печать князя великого Семенова всея Руси», тогда как отец его Иван Калита называл себя на печатях только великим князем. До этого титул «всея Руси» относился к русским митрополитам. Во времена Симеона Гордого закрепилось положение Москвы как церковной и светской столицы «всея Руси». Политика Симеона привела его к столкновению с литовскими князьями, также стремившимися получить преобладание в русских землях, действовавшими планомерно и последовательно.

«Оборона северо-западных рубежей от врагов русского народа была как бы наследственным делом в роде московских князей»
После захвата Ржева и Брянска литовские владения подошли непосредственно к московским пределам, сомкнувшись с границами Рязанского и Тверского княжеств. Почти в литовском окружении оказалось Смоленское княжество. Постепенное присоединение русских земель к Литовскому великому княжеству ставило на очередь вопрос о самостоятельном существовании Северо-Восточной Руси, раздробленной между отдельными княжествами.
В середине XIV в. литовские владения приблизились к московским рубежам, соседившим с землями по верховью Оки, где мелкие русские княжества быстро делались вассалами литовского великого князя. На литовском престоле в это время сидел замечательный полководец и политик Ольгерд Гедиминович. «Не токмо силою,- говорит о нем летописец,- елико умением воеваше».
Уже в самом начале княжения Симеона Ольгерд с войском осаждал Можайск, сжег посады, но города не взял. С этого времени началась изнурительная «литовщина» – непрерывные военные столкновения на протяжении почти 40 лет. Все недовольные политикой московских князей в Северо-Восточной Руси обратили свои взоры в сторону Литвы; наоборот, враги Ольгерда искали помощи в Москве.
В 1345 г. в Литве произошла «замятия велика», приведшая к большим изменениям во взаимоотношениях князей. Ольгерд вместе с братом Кейстутом внезапно захватили Вильно, где сидел их брат, великий князь Евнутий. Перескочив через стену, Евнутий в ужасе бежал из города босым в холмистую местность около литовской столицы и был схвачен там с полуобмороженными ногами. Освобожденный братьями из заключения, Евнутий поспешил бежать в Смоленск, а оттуда в Москву. Здесь состоялось торжественное крещение Евнутия вместе с его дружиной, до тех пор язычников, в христианскую веру. Отношения с Ольгердом окончательно определились как враждебные.
Театр военных действий переместился в Новгородскую землю. Новгородцы нередко ссорились с великими князьями и боялись их господства в своих владениях, но в случае опасности всегда искали помощи в Северо-Восточной Руси, и не ошибались. Великие князья неизменно оказывали им помощь и защиту, «боронили свою отчину» Великий Новгород от немцев и шведов. Оборона северо-западных рубежей от врагов русского народа была как бы наследственным делом в роде московских князей, их особой заслугой, о чем нередко забывают наши историки, рассуждая о достоинствах тверских князей, якобы более талантливых, чем их московские собратья. Что русские люди XIV- XV вв. могли думать об этом по-своему, видно из следующей краткой справки. Переславский князь Ярослав Всеволодович был героем многочисленных походов против немцев в Эстонию, его сын Александр Невский победил шведов на Неве и немцев на Чудском озере (Ледовое побоище), его внук Дмитрий Александрович сражался с немцами в грозной Раковорской битве 1268 г Праправнук Ярослава, Юрий Данилович, выбил шведов из устья Невы и заключил с ними Ореховецкий договор. Оборона Новгорода от литовцев и немцев легла на плечи праправнука Ярослава – великого князя Симеона Ивановича.
В конце зимы Симеон приехал в Новгород и «…седе на столе своем правнук храбраго князя Александра». Он пробыл в Новгороде три недели. В тот же год Ольгерд пошел походом на Новгород и повернул обратно, только получив большой откуп.
Через два года (1348) новгородцы искали в Москве помощи против шведского короля Магнуса, высадившегося в устье Невы и захватившего Орешек. Симеон двинулся к Новгороду, но вскоре повернул обратно. Медлительность великого князя вызвала нарекание новгородского летописца, но Симеон был занят важным делом: он возвратился в Москву, чтобы «…слышати слова царева и жалованья». Борьба с Литвой была неминуема, и отношение к ней золотоордынского хана («царя») представлялось фактором первостепенного значения. Новгородцы вскоре сами справились со шведами, взяли обратно Орешек и прислали в Москву пленных шведов.
Хан разрешил спор между московским и литовским князьями в пользу Симеона. Ольгерд вынужден был отправить в Москву послов с дарами. В знак дружбы князья породнились – Ольгерд женился на Ульяне, снохе Симеона, а его брат Любарт – на двоюродной сестре великого князя.
СМЕРТЬ СИМЕОНА И КНЯЖЕНИЕ ИВАНА КРАСНОГО
1353 год был страшным и сопровождался смертоносной эпидемией в Москве. 11 марта умер митрополит Феогност, на той же неделе умерли дети великого князя Иван и Семен, вслед за ними настала очередь Симеона Ивановича, скончавшегося 26 апреля. Не успели справить по нем сорокодневные поминки, как умер его брат Андрей Иванович, началось короткое княжение Ивана Ивановича, прозванного Красным, т. е. Красивым.
Симеон Иванович при жизни имел большое потомство: двух сыновей и дочь от первой жены, четырех сыновей от третьей. Все сыновья умерли при жизни отца, а дочь была выдана замуж за кашинского князя. Выморочность и отчаяние чуются за словами духовной Симеона, увещающего своих братьев не слушать лихих людей, «…чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла». Главная дума завещателя об обеспечении его княгини, которую он поручает заботам своих братьев и дяде, тверскому князю Василию Михайловичу. Ей он передает свою «отчину», может быть, в надежде, что беременность жены обнаружится после его смерти и у него родится наследник, которого он так жаждал иметь при жизни.
Так, видимо, надо понимать не разобранное в его духовной место – «…по бозе приказываю своей братье, князю Ивану и князю Андрею, свою княгиню и своего… и свои бояре». На месте двух точек, поставленных издателями взамен стертого или неразобранного слова, видимо, надо читать «сына» (через титло – «сна»), иначе разве можно было бы завещать княгине всю московскую отчину с Можайском и Коломной и напоминать братьям, «…како тогды мы целовали крест у отня гроба». Ожиданиями возможного наследника объясняются странные распоряжения Симеона и «…переход в женские руки, да еще в руки бездетной вдовы, уроженки тверского княжого дома, таких важнейших московских владений, как Можайск и Коломна», чему удивлялся А. Е. Пресняков.
Завещание Симеона Ивановича осталось невыполненным, и московская отчина перешла его брату Ивану Ивановичу, прозванному Красным. Он был на 10 лет моложе старшего брата (родился 30 марта 1326 г.) и сделался московским князем 27 лет от роду. Из всех московских князей это была самая бесцветная фигура; летописец его называет кротким, тихим и милостивым, награждая добродетелями, подходящими обычному семьянину, но не московскому князю, внуку Даниила и сыну Калиты.
Все заметили слабость нового московского правителя. Молодой рязанский князь захватил московскую волость Лопасню, находившуюся в непосредственной близости к Москве (между Серпуховом и Москвой), и взял в плен ее наместника. Новгородцы интриговали в Орде и поддерживали в ней своего кандидата на великое княжение – Константина Суздальского. В течение почти двух лет новгородцы не имели мира с Иваном Ивановичем, а «…зла не бысть никакого же», хотя они посылали своих послов в Константинополь с жалобами на нового митрополита Алексея. В самой Москве шла усобица между боярами, кончившаяся таинственной смертью тысяцкого Алексея Хвоста.
Но Московское княжество окрепло, и судьба его уже не зависела от личных способностей великих князей. Иван Иванович оставался на престоле до самой своей смерти 13 ноября 1359 г.- «…и положен бысть в своей отчине в граде Москве в церкви святого Михаила». После него остались сыновья Дмитрий и Иван и не известная по имени дочь, еще в малолетстве выданная замуж за одного литовского князя. Иван умер вскоре после смерти отца, и единственным наследником, если не считать князей боковой серпуховской линии, остался Дмитрий. В роде московских князей женщины были более долговечны. В год смерти Ивана Ивановича еще оставались в живых три вдовы: вторая жена Калиты – Ульяна, третья жена Симеона Гордого – великая княгиня Марья и Александра, вдова Ивана Ивановича.
МОСКВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIV в.
При Иване Калите и его преемниках Москва стала менять свой облик, делаясь все более и более стольным городом, где праздновались шумные княжеские свадьбы и происходили княжеские съезды, куда собирались ратные люди для дальних походов, приезжали купцы-чужеземцы, а высшее духовенство ехало к митрополиту за разрешением своих нужд. То, что только намечалось при Юрии Даниловиче, стало осуществляться при Калите и претворилось в жизнь при Симеоне Гордом. Москва окончательно сделалась столицей Северо-Восточной Руси.
При Калите начал складываться облик Московского Кремля как центра гражданской и церковной жизни всех русских земель. Сложилась традиция одновременного существования двух соборов-усыпальниц – Успенского и Архангельского. В Успенском хоронили митрополитов, в Архангельском – великих князей «всея Руси». Этим знаменовалось, что в Москве сосредоточилась светская и духовная власть, земная и небесная сила. «Уже бо тогда честь и слава великого княжения восхождаше на боголюбивый град Москву, иде же первосвятительство и боговенчанное царство утвердися»,- пишет один поздний летописец, желая подчеркнуть раннее возвышение Москвы.
Время Калиты и его сыновей отмечено строительством первых каменных зданий в Москве. Московское каменное строительство сразу же приняло относительно широкий размах. Кроме Новгорода и Пскова каменные постройки в это столетие возводились лишь в Твери и Москве. 4 августа 1326 г. заложена «…первая церковь камена на Москве на площади во имя святыа Богородица, честного ея Успениа». В ней похоронен митрополит Петр.
Общее впечатление от Москвы времен Калиты и его сыновей остается как еще о небольшом сравнительно городе, однако быстро расширяющем свои пределы. Бросаются в глаза относительно небольшие размеры московской территории, в основном укладывающейся в рамках современного Кремля и части Китай-города. Стоит сравнить ее с громадной площадью, занятой древним Новгородом, чтобы признать последний значительно более богатым городом, чем Москва.
О внутренней жизни Москвы первой половины XIV в. известно чрезвычайно мало. Более или менее подробно летописи говорят только о пожарах и эпидемиях. Деревянная Москва была подвержена постоянной опасности от огня. Недаром же впоследствии ходила бойкая московская поговорка: «Москва сгорела от грошовой свечки». И. Е. Забелин склонен был в частых московских пожарах видеть даже проявление злой воли: «Периодическое выжигание Москвы совершалось в известных случаях из ненависти и мести»,- пишет он в своей истории Москвы. Вероятно, в числе причин, вызывавших пожары, найдем и поджоги. Но главной причиной их все-таки была скученность деревянных построек. В истории Москвы пожары выделяются как великие бедствия, после которых происходило обновление города.
Первый – не по времени, потому что Москва, конечно, горела и до него,- а по известиям летописи, был пожар 3 мая 1331 г., когда выгорел Кремль. Второй, записанный в Новгородской летописи, относится к 1335 г. В этот год зараз погорели Москва, Вологда, Витебск и Юрьев-Немецкий (Дерпт). В третий раз Москва погорела 3 июня 1337 г. На этот раз выгорело 18 церквей. Так, в течение шести лет Москва трижды горела по разным причинам, чаще всего в летнее время, когда сухая погода способствовала распространению огня. Четвертый пожар, в который сгорело уже 28 церквей, случился в мае (31 мая 1343 г.). Летописец замечает по поводу этого пожара: «В пятое на десять лет бысть се уже четвертый пожар на Москве великий». Таким образом, москвич-автор насчитал за 15 лет 4 больших пожара.
Особенно был памятен для москвичей «…великий пожар еще от Всех Святых», происшедший летом 1365 г. «В том же году,- красочно пишет летописец, – был пожар в Москве, загорелась церковь Всех Святых, и оттого погорел весь город Москва, и посад, и Кремль, и Загородье, и Заречье. Было тогда жаркое время, великая засуха и зной, да к тому же началась великая буря с ветром: головни бросало за десять дворов, а буря кидала бревна. Один двор люди погасят, а где-нибудь через десять дворов в десяти дворах загоралось. Поэтому люди не могли погасить, не успевали не только дворы гасить, но строения разбирать и имущества никто не успевал вынести; настиг пожар и все погубил, все пожрал огонь и пламенем испепелил. Так за один или за два часа погорел весь город без остатка. Такого пожара раньше не было. Он называется великий пожар, что от Всех Святых». Другое известие поясняет, что церковь Всех Святых стояла в Чертолье, как назывался глубокий овраг с ручьем в районе современного Дворца Советов. В течение 30 с лишним лет можно насчитать 5 больших пожаров, а сколько еще было малых пожаров, своевременно потушенных и оставленных летописцем без внимания.
Другим страшным бедствием, опустошавшим Москву, были эпидемии. Современникам больше всего запомнился «великий мор», погубивший множество людей. Его занесли «с низу» по Волге в Нижний Новгород, оттуда перекинулся в Коломну, из нее в Переславль-Залесский, а на следующий год (1364) появился в Москве и во всех московских волостях. В Переславле в иной день умирало 20-30, порой 60 и 70 человек, «…а таковы дни бывали – поболе ста человек на день умирало». Страшная болезнь, несомненно чума восточного происхождения, описана летописцем следующими приметами: «А болезнь была такова: сперва как рогатиной ударит за лопатку, или против сердца под груди, или между крил (т. е. на спине.- М. Т. ), и разболеется человек, и начнет кровью харкать, и разобьет его огнем, и потом бывает пот, потом дрожь его возмет, и, так полежав в болезни иные один день, другие два дня, а иные три дня, умирают. А прежде мор был, кровию харкая умирали. Потом железою разболевшись умирали, так же полежав два или три дня. Железа же появлялась не одинаково: у одного на шее, у другого на стегне, у третьего под пазухою, у иного под скулою, у иного за лопаткою. Увы мне, – восклицает далее автор приведенных слов. – Как могу рассказать о той грозной беде и страшной печали, бывшей в великий мор… Плакали живые по мертвым, потому что умножилось множество мертвых, в городе мертвые, и в селах, и в домах мертвые, и в храмах, и у церквей мертвые. Много мертвых, а мало живых».
Мор перебросился и на другие места. Люди мерли десятками и сотнями в Твери, Суздале, Кашине и других городах. Великий мор, грозной волной прокатившийся по русским городам, надолго оставил по себе память у русских людей и служил своего рода памятном датой.
ПРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА АЛЕКСЕЯ
Новому московскому князю Дмитрию Ивановичу исполнилось всего 10 лет, когда он вступил на престол (родился 12 октября 1350 г.). Следовательно, говорить о характере малолетнего князя еще рано. Он мог только княжить, но не управлять. Малолетством московского великого князя воспользовались другие князья. Великое княжение было передано не Дмитрию Ивановичу, а суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, «…не по отчине, ни по дедине». Однако используя «замятию» в Орде, когда появилось несколько враждующих ханов, московские бояре добились для своего князя ярлыка на великое княжение. Двенадцатилетний Дмитрий Иванович сел на великом княжении, на столе отца и деда в 1363 г.
В ту пору своей жизни Дмитрий Иванович, конечно, не мог вести самостоятельной политики. За его спиной чувствуется присутствие опытных государственных людей, умевших твердо и решительно направлять события в определенное русло. Действительно, у кормила правления в Московском княжестве стоял замечательный государственный деятель XIV в. – митрополит Алексей. Он родился в 1299 г., судя по тому, что он был семнадцатью годами старше Симеона Гордого. Его отец боярин Федор Бяконт имел 5 сыновей, старший из которых, Елферий, впоследствии принял в монашестве имя.Алексей. По древнему преданию, Елферия крестил Иван Данилович Калита, хотя сам Калита в это время был еще мальчиком («…еще тогда юн сый»).
В те отдаленные времена, о которых идет речь, перед молодыми людьми из знатных семей обычно лежали только две дороги: военная или духовная. Елферий выбрал вторую и с юных лет (двадцати лет от роду) посвятил себя монашеству. Он постригся под именем Алексея в Богоявленском монастыре, находившемся в непосредственном соседстве с Кремлем. Здесь Алексей подружился с другим монахом, Стефаном, братом Сергия Радонежского, происходившим из рода ростовских бояр, которые перешли на московскую службу. Стефан был любимым духовником московских аристократов. Среди них называли Симеона Гордого, тысяцкого Василия с его братом Федором и многих «старейших» бояр. Монашеский кружок поддерживал тесные связи с самим митрополитом Феогностом.
Близость Алексея к высшему боярству и великокняжеской семье, а также его несомненные способности обратили на него внимание церковных верхов. Митрополит Феогност сделал Алексея своим наместником, обязанным «…спомогати ему и розсужати церковные люди вправду по священным правилом». Таким образом Алексей оказался в центре всех церковных дел и нередко заменял Феогноста, разъезжавшего по своей обширной митрополии. По мысли Симеона Гордого, митрополичий престол должен был перейти к Алексею, поставленному епископом во Владимир. Это произошло незадолго до смерти Симеона, который вместе с Феогностом тогда уже прочил Алексея в митрополиты и посылал об этом запрашивать в Константинополь.
Для Москвы характерно, что Феогност, столько трудившийся в пользу своей новой родины, как позже Киприан и Фотий, все-таки не был канонизирован. Этой чести удостоились в Москве только русские митрополиты – Петр, Алексей, Иона, в XVII в.- Филипп. Так даже в деле признания святых Москва резко повернула в русское русло, наполнив святцы большим количеством русских угодников и поставив на первое место своих «московских чудотворцев». В 1354 г. Алексей пошел в Царьград ставиться на митрополию. Впервые Москва выдвинула и упорно отстаивала своего кандидата, к тому же коренного москвича по происхождению.
Поставление Алексея Бяконтова в митрополиты было первым шагом к созданию русской национальной церкви и свержению зависимости от константинопольской патриархии. Это прекрасно понимали в греческой столице, где русский кандидат дожидался своего поставления в течение года. Настольная грамота, данная Алексею от патриарха 30 июня 1354 г., выражала мысль, что Алексей был поставлен в митрополиты как русский «уроженец» и там воспитанный, по своему «благоговейнству и добродетели». Хотя Алексей знал греческий язык и был образованнейшим человеком в русском обществе, он несомненно уступал в смысле внешней полировки утонченным византийским иерархам. Согласие на поставление Алексея в митрополиты было вынужденным и дано было константинопольской иерархией лишь под давлением тяжелых обстоятельств.
После смерти Ивана Ивановича естественным правителем Московского княжества сделался митрополит Алексей. О том, как это произошло, читаем в грамоте константинопольского патриарха: «…спустя немного времени скончался великий князь московский и всея Руси, который перед своей смертью не только оставил на попечение тому митрополиту своего сына, нынешнего великого князя Дмитрия, но и поручил управление и охрану всего княжества, не доверя никому другому, ввиду множества врагов внешних, готовых к нападению со всех сторон, и внутренних, которые завидовали его власти и искали удобного времени захватить ее». Эта грамота была написана уже после смерти митрополита Алексея, но она правильно указывает на опасное положение Московского княжества в малолетство Дмитрия Донского. Митрополит взял в свои руки бразды правления, «…вследствие чего, призванный учить миру и согласию, увлекся в войны, брани и раздоры».
Действительно, митрополит Алексей твердой и уверенной рукой правил Московским княжеством. В свою очередь, Дмитрий Донской был глубоко привязан к своему воспитателю и не мог простить митрополиту Киприану, поставленному на митрополию еще при жизни Алексея, его недостаточное уважение к старому митрополиту.
В 1365 г. «…по слову митрополита Алексея и великого князя» троицкий игумен Сергий ездил в Нижний Новгород и наложил на него проклятие. Когда митрополит Киприан из Константинополя пришел на Русь, он услышал от великого князя жесткие слова: «…есть у нас митрополит Алексей, а ты почто ставишися на живаго митрополита?». Отвращение, которое Дмитрий Иванович и позже подавлял в себе по отношению к Киприану, в немалой степени объяснялось тем, что тот своими интригами обидел старого Алексея, который уже был «во мнозе изнеможении». Отношения между Алексеем и Дмитрием Ивановичем поражают особой теплотой. Отправляя своего воспитанника в Орду, семидесятилетний митрополит провожал его до Оки, молился за него и благословил на дорогу.
Воспитанный при дворе первых московских князей, митрополит Алексей держался традиционной политики по отношению к Орде. По приглашению ханши Тайдулы он ездил в Орду и «…в борзе из Орды отпущен», что было очень вовремя, так как там начались крупные междоусобицы. Впоследствии поездка Алексея в Орду была расцвечена легендами о торжественном приеме, оказанном ему царем Джанибеком. Встреча Алексея с ханом не без картинности сравнивалась со встречей льва с ягненком: «…лев и агнец вкупе почиют».
Опытная рука митрополита Алексея тотчас же сказалась в действиях московского правительства. Ведь не мог же десятилетний мальчик руководить большими политическими делами того времени, хотя Никоновская летопись и уверяет, что Дмитрий Иванович, «…имеа лет 11, разумом же и бодростию всех старее сый». В 1363 г. великий князь сразу же захватил два княжения – Галич и Стародуб, выгнав оттуда прежних князей-отчичей.
В 1367 г. в Москве спешно стали строить «град камен». Его делали «без престани», что стояло в явной связи с осложнениями на Западе. Вмешавшись во внутренние распри между членами тверского княжеского дома, Дмитрий Иванович послал московскую рать, повоевавшую тверские села на правом берегу Волги. В следующем, 1368 г. тверской князь Михаил Александрович, приглашенный в Москву «любовию», был арестован и сидел некоторое время в заточении. Тверской летописец по этому случаю особенно жалуется на митрополита Алексея как виновника обиды, нанесенной тверскому князю. Освобожденный из заточения, Михаил сразу же завел сношения с Ольгердом, тем более что московская рать опять начала угрожать Тверскому княжеству. Вслед за этим в 1368 г. произошла «первая литовщина».
ЛИТОВЩИНА
Ольгерд, предприняв поход на Москву, действовал скрытно и решительно, так что в Москве только очень поздно узнали о приближении литовского войска. Тотчас же из Москвы были разосланы грамоты по городам для сбора рати, но войска не подоспели сойтись из отдаленных мест. Поэтому из воинов, бывших в Москве, спешно составили сторожевой полк из москвичей, коломенцев и дмитровцев под воеводством Дмитрия Минина. Тем временем Ольгерд вошел в московские пределы и ознаменовал свое движение пожарами и грабежами, «…порубежнаа места жечщи, сечи, грабити, пленити». Он дошел до реки Тростны, вытекающей из Тростенского озера к востоку от Волоколамска, и тут разбил московский сторожевой полк (21 ноября 1367 г.). Пытая пленников, Ольгерд требовал от них ответа: «…где великий князь, есть ли при нем сила». Пленники единогласно показывали, что великий князь Дмитрий сидит в Москве, а войска к нему еще не успели собраться. Тогда Ольгерд поспешил к Москве и остановился под городом.
В Кремле засел великий князь Дмитрий с двоюродным братом Владимиром Андреевичем и митрополитом Алексеем. Все деревянные строения вокруг города были заблаговременно сожжены, и Кремль приготовился к осаде. Ольгерд простоял под Москвой три дня и три ночи, предал пламени церкви, монастыри и остатки строений вокруг Кремля, разорил окрестные села и со множеством пленных тронулся в обратный путь.
Поход Ольгерда произвел громадное впечатление на москвичей. «Преже того толь велико зло Москве от Литвы не бывало в Руси, аще и от татар бывало»,- пишет о первой литовщине современник.
«Другая литовщина», как ее называет летописец, произошла через два года после первой. Литовское войско под командой Ольгерда выступило осенью 1369 г. С Ольгердом шли его братья и сыновья, тверской князь Михаил Александрович и смоленский князь Святослав «с силою смоленскою». На этот раз предприятию Ольгерда сопутствовали неудачи. Подойдя к Волоку Ламскому, Ольгерд два дня бился под этим городом и не мог его взять. Героем, «хоробром», Волока был князь Василий Иванович Березуйский, погибший от раны, полученной необычным путем. Он стоял на мосту у городских укреплений, когда какой-то литвин пронзил его копьем («сулицею») из-под моста. Раненый князь разболелся и умер. «Тому хоробру такова слава»,- восклицает современник об этом мужественном защитнике Волоколамска.
Безуспешно простояв под Волоколамском два дня, Ольгерд поспешил к Москве. На зимний Николин день (6 декабря) литовское войско подошло к Москве. И на этот раз Ольгерд стоял под Кремлем восемь дней, «города Кремля не взя». В городе сидел великий князь Дмитрий Иванович, тогда как митрополит Алексей был в Нижнем Новгороде, а Владимир Андреевич вместе с подошедшей рязанской помощью стоял в Перемышле, заняв фланговую позицию. Конец второй литовщины был несколько неожиданным. Боясь нападения московских войск, Ольгерд начал переговоры с Дмитрием, который вначале соглашался заключить перемирие на полгода (до Петрова дня, т. е. до 29 июня), но по настоянию Ольгерда согласился на «вечный мир». На следующий год мир был укреплен брачным союзом. Князь Владимир Андреевич обручился с Еленой, дочерью Ольгерда, принявшей крещение с именем Евпраксии.
Обе литовщины причинили большой вред Москве, особенно городским предместьям («посаду») и окрестным селам. Воспоминание о них было настолько прочным, что нашло свое отражение в былинах. Они поют о женитьбе князя Владимира на литовской королеве Апраксии, конечно, давно спутав Владимира Андреевича XIV в. с любимым былинным персонажем Владимиром Красное Солнышко. Да и в самой Литве сложился легендарный рассказ об этом событии. В нем говорится, что Ольгерд и Дмитрий поддерживали дружеские отношения. Вдруг Дмитрий Иванович без всякой причины прислал к Ольгерду своего посла с упреками, а с ним огонь (т. е. огниво) да саблю, со словами: «Буду в земле твоей по красной весне и по тихому лету». Ольгерд вынул из огнива губку и кремень, запалил губку и отдал ее послу с обещанием: «Яз у него буду на Велик день и поцелую его красным яйцом-щитом, и с сулицею, а божиею помощию к городу Москве копие свою прислоню». На самый Великий день (т. е. на Пасху) князь великий с князьями и с боярами шел из церкви, а Ольгерд показался под Москвою на Поклонной горе. Испугавшись литовской силы, Дмитрий Иванович сам выехал к Ольгерду, поднеся ему большие дары, и помирился. Но Ольгерд этим не удовлетворился. В знак победы он сел на коня и с копьем в руке подъехал к городу, «…и копие свое к городу приклонил». В этом рассказе чувствуется отголосок какого-то предания, а возможно, песни, сложенной в честь Ольгерда, с ее народными мотивами о красной весне и тихом лете. Для историка Москвы в этом рассказе имеется, впрочем, одна интересная деталь – высокое представление о значении Москвы как стольного города. Ольгерд в легенде поступает примерно так же, как древний Олег, повесивший щит на вратах Царь-града.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Политическая деятельность Дмитрия Ивановича началась рано. Уже в 1363 г. он столкнулся с попыткой суздальского князя Дмитрия Константиновича захватить великое княжение. Тринадцатилетний Дмитрий Иванович стал во главе московского войска, опустошил окрестности Суздаля и заставил претендента отказаться от своих намерений. В походе участвовал и малолетний двоюродный брат великого князя Владимир Андреевич, которому было всего 8 лет. Конечно, князья номинально руководили военными действиями. За их спиной стояли опытные воеводы, но походы, битвы и опасности рано стали знакомы осиротевшим московским князьям.
В 1365 г. умерла мать Дмитрия Ивановича, великая княгиня Александра, а в следующем году молодой великий князь женился на Евдокии, дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича. Свадьба праздновалась 18 января 1366 г. в Коломне. Может быть, обряд венчания производился одним из коломенских попов, Михаилом, который произвел на великого князя большое впечатление своей импозантной внешностью и манерой служить в церкви. Это явилось началом необычайной карьеры Михаила. Судя по всему, супруги жили согласно, и современники трогательно описывали горе Евдокии на похоронах ее рано умершего мужа.
Первый самостоятельный военный поход Дмитрий Иванович совершил в 1370 г. Он ходил «ратью сам к Твери», взял тверские города Зубцов и Микулин и нанес Тверскому княжеству страшные опустошения. С этого времени начинается непрерывная полководческая деятельность Дмитрия Ивановича. Зимой того же года он отстаивал Москву от войск Ольгерда, а в 1371 г. разгромил под Скорнищевом рязанскую рать. В следующем (1372) году великий князь стоял со своим войском на Оке близ Любутска, ожидая прихода Ольгерда. Московская и литовская рати находились по обе стороны оврага, и тот овраг «бяшеть им… в спасение», помешав кровопролитию. Ольгерд и Дмитрий заключили мир.
На другой год Дмитрий Иванович снова был с войском на Оке, на этот раз защищая московские пределы от возможного набега татар, разорявших Рязанскую землю. В 1375 г. Дмитрий Иванович осаждал Тверь и принудил тверского князя, тщетно ждавшего помощи от литовцев и татар, к мирному договору. Не проходило ни одного года, чтобы великий князь не выходил куда-нибудь с войском. В 1376 г. он снова на Оке, «…стерегася рати татарские от Мамая». Направление его политики все более и более принимало противолитовский и противотатарский характер. В том же году Дмитрий Иванович «послал» Владимира Андреевича на Ржев. Владимир стоял под ним три дня, сжег посад, но города не взял. Почти одновременно соединенная суздальская и московская рать спустилась по Волге и осадила Великие Болгары. Напрасно татары стреляли из луков и самострелов и старались устрашить русское войско («…из града гром пущаху, страшаще нашу рать»), выезжали на верблюдах, «кони наши полошающе». Русские не испугались, и болгарские князья вынуждены были дать большой откуп и посадить у себя в городе «даригу и таможника» Дмитрия Ивановича, таким образом фактически признав свою зависимость от московского князя.
Уже в эти годы, предшествовавшие Куликовской битве, ярко проявились способности Дмитрия Ивановича. Молодой великий князь не только успешно воевал сам, но и окружил себя талантливыми полководцами. Среди них особенно выделялись двое: князь Владимир Андреевич Серпуховский и воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, водивший московскую рать в болгарский поход. Узы тесной дружбы связывали великого князя с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, храбрым князем, не знавшим в своей жизни поражений. Владимир был на четыре года моложе Дмитрия и родился в необычной обстановке – на сороковой день после смерти своего отца. К нему применяли старую народную примету о круглых сиротах: дитя, родившееся после смерти отца, бывает счастливым в жизни, как бы в вознаграждение за свое исконное сиротство.
Необыкновенно подвижный и энергичный, Дмитрий Иванович точно не знал отдыха и проводил свою жизнь в непрерывных походах против врагов Русской земли; по выражению его биографа, он «…стражу земли Русскые мужеством своим держаше». Во время страшной Куликовской битвы он показал себя храбрым и бескорыстным человеком, заботившимся не о личной славе, а об общем благе. Во всех его распоряжениях заметно стремление выдвинуть на первый план боевые задачи. Так, Дмитрий Иванович ставит в засаду лучших воинов во главе с Владимиром Андреевичем и Боброком-Волынским. В случае победы вся слава достанется засадному полку, все опасности – основному войску. И тем не менее Дмитрий Иванович не остается с засадным полком, а становится в передовые ряды своего войска. Заранее обдуманная предосторожность спасает русское войско от поражения. Под знаменем Дмитрия Ивановича в его доспехах на Куликовом поле стоит любимый княжеский боярин Михаил Бренк. Сюда и устремляется неодолимый напор татар. Бренк гибнет, но войско знает, что это не решает исхода битвы. Ведь под княжеским стягом погиб не великий князь, а боярин.
Подобная предосторожность резко выделяет Дмитрия Ивановича из числа тех полководцев средневековья, которые, вроде французского короля Иоанна Доброго, много думали о своей рыцарской славе и мало о судьбе страны. А между тем Дмитрий Иванович был, несомненно, лично храбрым человеком. Во время общей свалки на Куликовом поле он один сражался с четырьмя татарами. Один воин видел его «…едва идуща, язвен бо бысть вельми зело». После битвы Дмитрия Ивановича нашли едва живого, лежащего в соседней дубраве под деревом, его доспехи были избиты и иссечены, но на теле не оказалось смертельных ран. «А прежде всех стал на бой, на первом с ступе, и в лице с татары много бился»,- добавляет автор одного из ранних сказаний о Мамаевом побоище. Дмитрия Ивановича отличало бережное отношение к воинской силе. Объезжая Куликово поле, заваленное трупами, он оплакивал своих сподвижников: «…и проплака о всех князь великий горьким плачем с великими слезами». Сказания о Мамаевом побоище с поразительной настойчивостью передают нам речи Дмитрия Ивановича, с которыми он обратился к воинам перед началом сражения. И эта настойчивость говорит нам о распространенности таких речей в русской боевой практике. Конечно, подлинные слова всячески изменялись под пером позднейших переписчиков и составителей сказаний о Мамаевом побоище, но общая мысль речей Дмитрия передается почти одинаково – это мысль о необходимости пострадать за Русскую землю. На слова приближенных: «…аще ли спасемся, а тебя единаго не будет, чей успех будет?» – Дмитрий отвечал такой речью: «Сами разумеете, коль красно есть з добрыми людьми умрети, а прияти себе смерть мученическая». В другом случае Дмитрию Ивановичу приписываются не менее замечательные слова: «Аз приях от бога на земли власть болши всех, чести и дарове, зла ли не могу терпети, или с вами пити чашю общую, вы вожделеете пити чаши смертныя, и како могу терпети, и како вас могу терпети и видети побежаемых».

«...Общая мысль речей Дмитрия передается почти одинаково - это мысль о необходимости пострадать за Русскую землю»
Кипучая натура Дмитрия Ивановича сказывалась и в других областях его политической деятельности. Великий князь явно стремился к созданию своей, независимой русской церкви. После смерти митрополита Алексея он хотел поставить на митрополию своего духовника Михаила, прозванного врагами Митяем. Предполагалось поставить Михаила в митрополиты собором русских епископов, без обращения к константинопольскому патриарху. «И возхоте тако быти» великий князь и его бояре. Попытку создать русскую независимую иерархию сорвало несогласие среди русских епископов. Намерение Дмитрия Ивановича осуществилось только в середине XV в.
Четкое понимание задач, стоявших перед Московским княжеством, выразилось в особых заботах Дмитрия Ивановича об укреплении Москвы каменными стенами. Он хотел сделать ее достойной столицей Северо-Восточной Руси и обезопасить от внезапного нападения врагов («…град же свой Москву стенами каменными чюдне огради»). Во внутренней политике Дмитрий Иванович проводил жестокую линию по отношению к непокорным боярам, уничтожил традиционную должность тысяцкого и предал сына последнего тысяцкого публичной смертной казни. Централизация власти в самой Москве, где в средневековые времена мы находим несколько князей-совладельцев, началась с княжения Дмитрия Ивановича. Добавим сюда факты несомненного культурного роста Москвы и Московского княжества в конце XIV в., появление собственной, и притом уже в достаточной мере богатой, литературы, живописи и архитектуры, чтобы мы получили право говорить о княжении Дмитрия Ивановича как о замечательном времени в истории Москвы и всей России.
Постоянные походы и опасности рано изнурили великого князя. В наших источниках сохранилось описание наружности Дмитрия Ивановича в самую цветущую пору его жизни, когда ему едва насчитывалось 30 лет. Он был очень сильным и мужественным, телом велик и широк, плечист, чреват (т. е. толст), очень тяжел, имел черные волосы и черную бороду. В этом описании бросается в глаза указание на раннюю полноту Дмитрия Ивановича, что объясняет нам его раннюю смерть. В кратких сообщениях о смертельной болезни Дмитрия можно как будто заметить указание на то, что он умер от болезни сердца. Автор его жития говорит: «Потом же разболелся и тяжко ему велми бе, и потом легчае бысть ему, и возрадовавшеся вси людие о сем. И пакы в большую болезнь впаде и стенание прииде ко сердцу его, яко и внутренним его торгатися и уже приближался бе конец жития его». Биограф Дмитрия Ивановича отмечает еще одну деталь – недостаточное образование князя: «…аще бо и книгам не научен сый добре». Впрочем, это типично для средневековья и не составляет исключительной особенности московских и вообще русских великих князей.
МОСКВА В БОРЬБЕ С ТАТАРАМИ
Усиление Московского княжества последовательно меняло общеполитическую обстановку. В начале XIV в. соперничество между Тверью и Москвой развертывалось на фоне борьбы за преобладание в Северо-Восточной Руси. Позже началась борьба между Московским и Литовским великими княжествами за преобладание в русских землях. При Дмитрии Донском наступил новый этап в истории борьбы за создание Русского государства, началась борьба русского народа за освобождение от татарского ига, в которой Москве принадлежало почетное место. Наш город возглавил и довел до конца освободительное движение русского народа против татарских завоевателей.
Поворот к враждебным отношениям между Московским княжеством и Золотой Ордой наметился в 1373 г. Татары приходили от Мамая на Рязань и произвели большое опустошение. В Москве также ожидали нападения, и Дмитрий Иванович, «…собрав всю силу княжения великаго», готовился встретить татарское войско на берегу Оки. На следующий год «…князю великому Дмитрию Московьскому бяшеть розмирие с тотары и с Мамаем». С этого времени начинается длительная и ожесточенная борьба Московского княжества с Золотой Ордой, над которой в это время главенствовал Мамай.
Выступление такой грозной силы, какой являлась Золотая Орда, оживило надежду противников московских князей. Незадолго до Куликовской битвы Мамай вступил в соглашение с великим князем литовским об общем нападении на Москву. Враждебные действия вначале развернулись в пограничных районах.
В мордовских землях татарский царевич Арабшах разбил суздальское и московское войско на реке Пьяне (1377). Это было прелюдией к более опасному выступлению. Собрав большое войско, Мамай послал его во главе с Бегичем на Москву. Навстречу татарам выступил «в силе тяжце» Дмитрий Иванович. Русские и татары встретились на реке Воже, правом притоке Оки. Переправившись через Вожу, татары с устрашающими кликами ринулись на московские войска, но им навстречу уже мчался полк Дмитрия Ивановича. Дополнительный удар с флангов нанесли окольничий Тимофей и князь Данило Пронский. Бросив свои копья, татары обратились в бегство. Множество их было перебито или утонуло в реке, а татарский лагерь, «…и шатры их, и вежи их, и юртовища, и алачуги их, телеги их» достались победителям.

«Во внутренней политике Дмитрий Иванович проводил жестокую линию по отношению к непокорным боярам»
Одна битва на Воже (1378) могла бы прославить Дмитрия Ивановича, но его ждала впереди другая, более славная победа на Куликовом поле. Значение Москвы как объединительного центра русского народа особенно сказалось в 1380 г., в памятные дни Куликовской битвы. Москвичи приняли горячее участие в общерусском деле борьбы с татарами и обеспечили победу над грозным врагом. Москва была тем центром, куда сходились отряды из русских городов: «…снидошася мнози от всех стран на Москву к великому князю». Сюда пришли белозерские полки, ярославские, ростовские, устюжские. Главная сила русского войска составилась из москвичей. Это видно из рассказа об уряжении полков на Коломне и на Куликовом поле. В числе других воевод в передовом полку находим московского боярина Микулу Васильевича, в большом полку при самом великом князе были московские бояре Иван Родионович Квашня и Михаил Бренк.
Из кого же составилась московская рать? Некоторое понятие об этом дает любопытный сводный список сказания о Мамаевом побоище, помещенный в большом Новгородском хронографе XVII в., который мной однажды уже привлекался к изданию. В рассказе о поисках великого князя после побоища говорится о самовидцах, видевших Дмитрия Ивановича во время битвы. Первым из них назван Юрка-сапожник, вторым – Васюк Сухоборец, третьим – Сенька Быков, четвертым – Гридя Хрулец. Эти люди ничем не прославились, и выдумывать их имена не было никакого смысла. Один из них упомянут с прозвищем «сапожник», по уменьшительным именам других можно также предполагать, что мы имеем дело с ремесленниками.
Замечательны были проводы русского войска, отправлявшегося из Москвы в поход против татар. «В слезах и во кричании ни единаго слова не может рещи от жалости сердца»,- рассказывает повесть о Мамаевом побоище. Великая княгиня Евдокия в слезах не могла произнести ни одного слова, и сам великий князь едва удержался от слез, но не прослезился «народа ради», в душе жалостно плакал, а словами утешал княгиню. К этой картине проводов воинов, такой простой и понятной, трудно что-либо добавить. Другая повесть о Мамаевом побоище только поясняет причины этой всеобщей скорби в Москве и в других русских городах: нигде не хотели утешиться об ушедших воинах, потому что они «…пошли с великим князем за всю землю Русьскую на острая копия».
Победа над татарами досталась русским воинам дорогой ценой. В собрании Государственного Исторического музея имеется замечательная рукопись, которая возвращает нас ко временам памятной Куликовской битвы и Дмитрия Донского. Это Синодик, написанный на пергаменте, полууставом XV в., с добавлениями позднейшего времени. В нем мы находим такую, почти современную запись о погибших на Куликовом поле: «Князю Федору Белозерскому и сыну его Ивану (на полях – Константину Ивановичу.- М. Т. ), убиенным от безбожнаго Мамая, вечная память. И в той брани избиеным: Симеону Михайловичу, Никуле Васильевичу, Тимоф(е)ю Васильевичу (на полях – Валуеву.- М. Т. ), Андрею Ивановичу Серкизову, Михаилу Ивановичу и другому Михаилу Ивановичу, Льву Ивановичу, Семену Мелику и всей дружине ихь, по благочестию скончавшихся за святыя церкви и за православную веру, вечная память». Сбоку записи написано слово «возглас». Это обозначает, что на церковных службах возвышали голос, когда поминали убиенных на Куликовом поле.
Москва видела и радостное событие – возвращение великого князя Дмитрия Ивановича, отныне навсегда прозванного Донским. Позднейшие версии сказания о Мамаевом побоище говорят, что великий князь прибыл в село Коломенское и ждал здесь своего брата Владимира Андреевича, также прозванного Донским. В день торжественного вступления победоносного войска в Москву оно выстроилось по обеим сторонам Яузы. Это было 1 октября 1380 г. Митрополит Киприан встречал великого князя в Андроникове монастыре с крестным ходом. Отсюда шествие пошло к Кремлю. Во Фроловских воротах великий князь увидел великую княгиню с княгинею Марьей, женой Владимира Андреевича, «с воеводскими женами и с воинскими». Евдокию сопровождали два малолетних сына, Василий и Юрий. Дмитрий Иванович пошел в Архангельский собор к гробам предков, а оттуда в Успенский собор.
Так рассказывается в названном нами Новгородском хронографе, и задача будущих исследователей определить, с чем мы тут имеем дело – с позднейшими припоминаниями и домыслами или с действительными событиями. Впрочем, указание на митрополита Киприана, отсутствовавшего в 1380 г. в Москве, заставляет нас несколько осторожно отнестись к повествованию о церемониале торжественной встречи в Москве, в остальном рассказ не внушает особого недоверия и, во всяком случае, правдоподобен.
Более ранние и тем самым более достоверные источники говорят нам еще об одной детали, связанной с Куликовской битвой. Победа обогатила многих воинов. Они погнали с собой на Русь большие стада коней, верблюдов, волов, захватили вражеские доспехи, одежду и имущество. Зато жены и дети погибших воинов горько плакали: «Уже бо солнце наше закатилося, а зори наши помрачишася; уже бо нам своих государей не видати».
ТОХТАМЫШЕВО РАЗОРЕНИЕ
Куликовская битва высоко вознесла славу Москвы, но Золотая Орда была еще сильна и отомстила русской столице Тохтамышевым разорением.
После гибели Мамая, убитого в одном из крымских городов, власть над Золотой Ордой перешла к хану Тохтамышу, задумавшему отомстить за поражение татар на Куликовом поле. Тохтамыш подошел к Москве неожиданно со стороны Рязани, взял и сжег Серпухов, после чего двинулся к Москве. Приближение Тохтамыша стало известно Дмитрию Донскому, но отсутствие единства среди князей и недостаток в Москве воинской силы заставили его отказаться от битвы с татарами и покинуть Москву. Великий князь отправился в Кострому, надеясь подтянуть к ней достаточно силы, чтобы выступить с войском против татар. Вести об отъезде великого князя вызвали в Москве смятение и бегство великокняжеской семьи, высшего духовенства и бояр, «…и бысть мятеж велик в граде Москве». Эгоистическое поведение феодальной верхушки привело в негодование ремесленников и купцов, тесно связанных со своим городом. Чернь взяла власть в свои руки и готовилась к защите города. В Кремле скопилось множество народа: «…елико осталося гражан и елико бежан с волостей збежалося, и елико от инех збежалося».
23 августа 1382 г. татары подошли к Москве. К тому времени горожане выжгли посад и очистили пространство возле кремлевских стен от изгородей и деревьев. Татары обосновались станом на расстоянии двух или трех полетов стрелы. Горожане были уверены в неприступности Москвы и смеялись над татарами со стен, а те угрожающе махали саблями.
Каменный Московский Кремль на первых порах оправдывал свою славу неприступного. Татары обстреливали город из луков и с необыкновенной меткостью поражали стрелами москвичей. Однако москвичи не только отвечали стрелами и камнями, но впервые применили огнестрельное оружие («тюфяки и пушки»). Один из горожан, «суконник» Адам, стоявший на Фроловских воротах, застрелил из самострела сына ордынского князя из числа приближенных Тохтамыша.
Город держался уже три дня и наверняка отбился бы от татарских полчищ, если бы Тохтамыш не прибег к обману. Нижегородские князья, пришедшие с татарами, клялись москвичам, что Тохтамыш не намеревается причинить им зло и требует только, чтобы его почетно встретили с дарами. Татары уговорили открыть ворота и встретить Тохтамыша крестным ходом. Когда торжественная процессия вышла из Кремля, татары убили перед городскими воротами литовского князя Остея, возглавлявшего оборону, и начали убивать беззащитных москвичей. Через открытые ворота и по приставленным к стенам лестницам враги ворвались в Кремль.
Страшная бойня завершила взятие города, происшедшее 26 августа «в 8 час дни», т. е., по тогдашнему счету времени, в середине дня. «И можно было тогда видеть в городе, – повествует современник,- печаль и рыдание, и вопль многих, и слезы, и крик неутешный, и многое стенание, и печаль горькая, и скорбь неутешимая, беда нестерпимая, нужда ужасная, горесть смертная, страх и ужас, и трепет, и дражание, и срам, и насмешка над христианами от татар. И был отсюда огонь, а отсюда меч; одни бежали от огня и умирали от меча, другие бежали от меча и погибали от огня; была для них четверообразная гибель: первая – от меча, вторая – от огня, третья – от воды, четвертая – быть отведенным в плен». К счастью, это было первое и последнее разорение Кремля от врагов на долгое время. Новое свое разорение он увидел только через два с лишним века.
Страшен был вид Москвы после разгрома ее Тохтамышем. Одних трупов было погребено 10 тысяч.
Во время раскопок в Кремле на краю холма нашли груды костей и черепов, перемешанные с землей в полном беспорядке. В некоторых местах количество черепов явно не соответствовало остальным костям скелетов. Очевидно, что в свое время такие места служили погребальными ямами, в которых в беспорядке были схоронены части разрубленных трупов. По-видимому, это те ямы, где погребались останки несчастных жертв, погибших при взятии Москвы татарами в 1382 г. Тохтамышево разорение надолго сделалось памятной датой для Москвы, и о нем вспоминали в течение, по крайней мере, двух столетий. Через семь лет после нашествия Тохтамыша умер Дмитрий Иванович (1389).
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Новый московский князь вступил на престол еще юношей, но уже совершеннолетним, ему было 18 лет. К тому же Василий Дмитриевич успел пройти короткую, но полную опасностей жизненную школу. В двенадцатилетнем возрасте Василий ездил в Орду тягаться о великом княжении с Михаилом Александровичем Тверским, совершив путешествие из Владимира водою по Клязьме и Волге. Это был 1383 год, когда черные пепелища Москвы еще живо напоминали о татарском нашествии, а Орда, казалось, возродила свое прежнее господство. В ставке Тохтамыша сошлись в этот год великий князь тверской, сыновья великих князей, московского и суздальского. Василий Дмитриевич пробыл в Орде три года, конечно, не по собственной воле, а по желанию хана, глядевшего на него как на заложника. Не выдержав долгого пребывания в Орде, молодой князь попытался бежать на родину в 1386 г., но был пойман и возвращен к Тохтамышу: «…приат за то от царя истомление велие». Неудача не сломила мужества Василия, нашедшего со своими доброхотами новый путь для бегства из опостылевшей Орды. В том же 1386 г. он бежал снова в Подольскую землю, к молдавскому воеводе Петру.
Замысел Василия Дмитриевича на этот раз увенчался успехом. Из Подольской земли он пробрался в Немецкую землю (Пруссию). Здесь он виделся с литовским великим князем Витовтом и обещал жениться на его дочери Софье. На следующий год Дмитрий Донской отправил в Полоцк старейших бояр для встречи своего предприимчивого сына.
Молодость, полная опасностей и дальних странствий, не прошла бесследно для Василия Дмитриевича. Он застал Орду в дни ее последнего подъема, когда Тохтамыш пытался возродить былую славу татар и вступил в конфликт даже с грозным Тимуром. Был Василий Дмитриевич и в землях Тевтонского ордена. Своим тестем он имел такого замечательного человека, как Витовт, поднявший могущество Литовского великого княжества на невиданную высоту. Золотая Орда, Молдавское господарство, Тевтонский орден, Литовское великое княжество – таковы этапы долгих скитаний молодого московского князя, посетившего большее количество стран, чем любой из его ближайших предков и потомков.
Василий Дмитриевич отказался от агрессивной политики отца и поддерживал дружбу с Витовтом и мирные отношения с ханами. Дружба с Витовтом дорого обошлась русскому народу, от которого более чем на 100 лет был оторван Смоленск, присоединенный к Литовскому великому княжеству, а покорность перед Ордой не спасла от нашествия Едигея, не менее опустошительного, чем набег Тохтамыша. Нерешительность, излишняя осторожность, почти робость характерны и для внутренней политики Василия Дмитриевича, при котором его младшие братья чувствовали себя хозяевами в своих уделах.
15 августа 1389 г. новый князь торжественно сел на великое княжение в Успенском соборе во Владимире, посаженный ханским послом Шихматом. Это обозначало уступку старым обычаям получать великокняжеский стол из рук золотоордынских ханов. В следующем году Москва пышно встречала митрополита Киприана и шумно праздновала свадьбу Василия Дмитриевича с Софьей Витовтовной. Московские послы приехали за Софьей в Мариенбург в Пруссии, где в то время находился Витовт. Из Гданьска княгиню с послами везли на кораблях, по-видимому, до Риги, а оттуда через Псков и Новгород в Москву, где встречал митрополит Киприан, «…и было чести и веселья до сыти».
По сравнению с величественными событиями княжения Дмитрия Донского время его ближайшего преемника представляется нам серым и незаметным. Тем не менее княжение Василия Дмитриевича отмечено дальнейшим расширением Московского княжества, присоединением к нему Нижегородского княжества и других земель. В самой Москве заметен быстрый рост населения, о чем мы можем с полной достоверностью судить по известиям о количестве дворов, сгоревших в пожары. Город настолько расширился, что была сделана попытка вырыть новый ров, который должен был окружить московский посад от Кучкова поля у Неглинной до Москвы-реки. Однако ров остался незаконченным, что вызвало сетования современников на лишние убытки от сноса дворов.
Конец XIV и начало XV в. были блестящим временем в развитии московского искусства. В Кремле появилось несколько новых каменных церквей: Рождества Богородицы, Благовещения на княжеском дворе, заложен был собор в Вознесенском монастыре, в Симоновском монастыре под Москвой начали строить «великую» соборную церковь. Каменное строительство перестало быть уделом одной Москвы, и мы узнаем о строительстве каменного собора в Коломне. То, что еще намечалось при Дмитрии Донском, стало осуществляться при его сыне. В Москве сложилась собственная художественная школа, что особенно заметно в области живописи. В 1395 г. мастера Феофан Гречин и Семен Черный расписали церковь Рождества Богородицы с приделом Св. Лазаря. Это был тот самый Феофан Гречин, оставивший по себе глубокую память в истории нашей живописи. Современное сказание о Феофане Гречине говорит, что он был «…книги изограф нарочитый и живописец изящный во иконописцех». Феофан расписал в Москве три церкви. Современники особенно восхищаются его картинами, изображавшими город: «…у князя Владимира Андреевича в камене стене саму Москву такоже написавый». Надо пожалеть, что это изображение Москвы до нас не дошло, хотя и можно подозревать, что оно не бесследно пропало и копия его, изображенная на древней московской иконе, когда-нибудь отыщется.
Время Феофана Гречина блестяще изучено в работах И. Э. Грабаря и других ученых. Для нас важно отметить, что художественные интересы уже прочно вошли в московское общество конца XIV – начала XV в., начали занимать его внимание, возбуждать какие-то споры. Однако этому поступательному движению русского искусства и росту самой Москвы как города нанесен был новый удар, по своим последствиям мало уступавший печальному Тохтамышеву разорению.
НАШЕСТВИЕ ЕДИГЕЯ И НОВЫЕ БЕДСТВИЯ МОСКВЫ
В 1409 г. Москва испытала новые разорения от татар, которые живо напоминали Тохтамышеву рать при Дмитрии Донском. Современные летописцы не скрывают, что успех нового татарского набега в немалой степени зависел от неумелой и излишне доверчивой политики Василия Дмитриевича: татары «…волчьскы всегда покрадають нас, злохитрено мирують с нами, да неколи князя наши, надеющеся целыя любви от них, без стражии будуть, да они губительно время обретше, место злаго желаниа получат». Поход был хорошо подготовлен князем Едигеем, тщательно скрывавшим свои замыслы и даже помогавшим Василию Дмитриевичу во время его трехлетней войны с Витовтом. Едигей вел двуличную политику и посылал свои войска на помощь московскому князю, желая как можно дольше продлить распри между русскими и литовцами, «…да не вскоре устраняють мира». Замыслы Едигея стали известны в Москве, и одному московскому боярину поручено было сообщить о движении Едигея, но тот перехитрил москвичей, задержал боярина и поспешно пошел к Москве. Известие о приближении татарского войска пришло в Москву очень поздно, когда враг уже находился поблизости от города («близ сущу града»). Великий князь с княгиней и детьми немедля направился в Кострому. Жители бежали из города, где начались разбои и грабежи.
К счастью, на этот раз защита Москвы находилась в надежных руках Владимира Андреевича Храброго и Андрея Дмитриевича, младшего брата великого князя. В пятницу (1 декабря) к вечеру под городскими стенами показались татарские полчища. Они расположились лагерем в некотором расстоянии от Кремля, вокруг которого были сожжены посады, а сам царь остановился в селе Коломенском. Едигей хотел зимовать под городом, чтобы овладеть Кремлем («а всячески взяти…ю»), и потребовал от тверского князя прийти к нему на помощь с пушками. Тверской князь сделал вид, что идет к нему, но дошел только до Клина и повернул обратно. Дело решила смута в самой Орде. Один ордынский царевич внезапно напал на Сарай и чуть не захватил своего хана, который спешно послал за Едигеем, призывая его немедленно вернуться домой. Воспользовавшись общим смятением, Едигей взял с москвичей большой выкуп и снял осаду.
Каменный Кремль выдержал испытание, но московские посады были разорены. «Жалостно было видеть,- говорит современник,- как чудные церкви, которые были созданы многолетними временами и высокими зданиями украшали величество града, в один час загорались пламенем, а величество и красота града, чудные храмы, от огня погибли. В тот же час было страшное время, люди бегали и кричали, а великое пламя с громом поднималось на воздух, тогда как город был в осаде от беззаконных иноплеменников». Последствия «Едигеевой рати» особенно коснулись московских посадов и окрестностей. Едигей простоял под городом 3 недели и отошел 20 декабря.
Едигеево нашествие было страшно не только для Москвы, но и для других русских городов. Татарские отряды взяли и разорили Переславль-Залесский, Ростов, Дмитров, Серпухов, Верею, Нижний Новгород, Городец. Много народу замерзло, спасаясь от татар бегством, потому что зима 1409 г. была студеной, со многими метелями и ветрами.
В 1415 г. «погоре град Москва». В том же году (7 июня) москвичи видели затмение солнца («…изгибе солнце и скры луча свои от земля в 4 час дни… и звезды явишася яко в нощи»). Суеверные люди считали это небесное «знамение» предостерегающим знаком грядущих опасностей, особо отметив, что оно случилось в 26-й год великого княжения Василия Дмитриевича.
Страшнее пожаров был великий мор, начавшийся в русских городах в 1417 г. Люди мерли в Новгороде, Пскове, Твери, Дмитрове, в Москве и во многих других местах. Многие села и городские посады окончательно запустели, богатые дворы стояли покинутыми, здоровые едва успевали погребать мертвых. Признаки болезни были примерно такими же, как и в великий мор середины XIV в. Великий князь избегал жить в Москве и пребывал в подмосковных селах. Болезнь свирепствовала в Москве («…на Москве почялся мор злее первого») и унесла в могилу нескольких представителей княжеского дома. Зараз умерли три сына Владимира Андреевича Храброго (Ярослав, Василий, Семен). Умер и младший брат великого князя Петр Дмитриевич.
Новое бедствие произошло в 1422 г. Начался голод, охвативший многие русские земли. Голодавшие ели трупы павших лошадей, съели кошек и собак, «и люди людей ядоша». В Москве, впрочем, было благополучнее, чем в других городах. Оков ржи стоил в Москве полтора рубля, в Костроме – два, в Нижнем Новгороде – шесть рублей.
ВАСИЛИЙ ТЕМНЫЙ
27 февраля 1425 г., ночью, умер Василий Дмитриевич, и московским великим князем сделался его единственный сын Василий. На этот раз на московский престол вступил 10-летний мальчик, вместо которого управляла его мать, княгиня Софья Витовтовна. Василий Васильевич родился в 1415 г., 10, 15 или 21 марта. Редко кому из московских людей доставались на долю такие бедствия, которые претерпел в своей жизни Василий Васильевич, получивший после своего ослепления мрачное прозвище Темный, т. е. слепой. А между тем от природы это был, несомненно, человек, одаренный многими способностями, по-своему яркий и своеобразный. Источники не позволяют нам говорить о его больших военных талантах. Василий Темный не раз терпел поражения и скорее был несчастлив, чем удачлив в своих военных предприятиях. Но он обладал несомненной личной храбростью, своеобразными рыцарскими чертами, которые напрасно отнимаются у московских князей В. О. Ключевским, нарисовавшим мастерский, но далекий от истины портрет московских князей, якобы серых и скопидомных. Во время суздальского боя с татарами Василий Васильевич мужественно сражался. У великого князя было много ран на голове и на руках, тело его было все избито, свидетельствует современник.
Тяжкие несчастья и непрерывная борьба за великое княжение приучили Василия к лицемерию и жестокости. Он дал Дмитрию Шемяке крестное целование, подтвердил свое обещание не искать под ним великого княжения грамотами с проклятиями на их нарушителей (такие грамоты так и назывались – проклятыми), чтобы тотчас нарушить обещание и начать новую борьбу за великое княжение. Позже Василий Васильевич не постеснялся отделаться от опасного врага с помощью отравы. «Людская молва» рассказывает, что дьяк Стефан Бородатый привез яд из Москвы к посаднику Исааку, а там подкупил повара Шемяки, прозванного Поганком. Повар подал отраву в курице. Подьячий Василий Беда, прискакавший в Москву из Новгорода с известием о смерти Шемяки, без промедления был сделан дьяком.
Василий Темный жестоко расправился со своим прежним союзником и шурином Василием Ярославичем Боровским. Василий так и умер в заточении в Угличе, где когда-то сидел сам великий князь. Дети Василия Ярославича тоже умерли в заточении, невинные жертвы политических интриг. О жалкой судьбе «Ярославичей» вспоминали даже во второй половине XVI в. Жестокость Василия вызывала невольное возмущение у современников, несмотря на привычку к суровости наказаний того времени. Особенно памятна была расправа с боярскими детьми Василия Ярославича, пытавшимися освободить своего князя из заточения. Великий князь приказал их казнить «немилостивно». Несчастных волокли по льду на лубьях, привязав к хвостам коней. Василий Васильевич первый прибег к такой страшной мере, как ослепление своих противников, приказав ослепить Василия Косого, брата Шемяки.
По своему образованию Василий Темный не отличался от других московских князей. Он был «не книжен». Современники отмечают большие дипломатические способности Василия. В конечном итоге он восторжествовал над своими противниками и расчистил место для своего преемника, знаменитого Ивана III.
ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА И СКОРАЯ ТАТАРЩИНА
Княжение Василия Темного отмечено в истории Москвы длительным периодом внутренних междоусобий, получивших у современников название «Шемякиной смуты». Она началась борьбой за великое княжение между Василием Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем Галицким и Звенигородским. Смерть Юрия не приостановила этой борьбы, так как ее продолжали его сыновья – Василий Косой и Дмитрий Шемяка.
Шемякина смута нанесла немалый ущерб городу, переходившему из рук в руки – от одной борющейся стороны к другой. В их борьбе вопрос о владении Москвой являлся центральным. Поэтому все события долгой междоусобной войны в той или иной мере связаны с Москвой. Москвичи явно разделились на две группировки: сторонников Василия Темного и приверженцев Юрия Галицкого с его сыновьями. В заговорах против Василия Темного принимали участие многие из москвичей («…бояре же и гости, бе же и от чернцов в той же думе»). Внутренние распри усиливали опасность от внешних врагов, в первую очередь татар, притупляли они и способность горожан к борьбе с постоянными местными бедствиями в виде пожаров.
Для москвичей был особенно тяжелым 1445 год, когда Василий Темный потерпел под Суздалем поражение и попал в плен к татарам (7 июля). Нательные кресты («тельники») великого князя, привезенные в Москву татарскими посланцами, оповестили великокняжескую семью и москвичей о поражении; «…и бысть плач велик и рыдание много». Почти одновременно столица была испепелена опустошительным пожаром (в среду 14 июля 1445 г.). Это был один из тех великих пожаров, которые причиняли безмерный ущерб древней Москве. Кремль загорелся ночью. В нем сгорели не только все деревянные строения, но даже каменные церкви и каменные стены распадались от невыносимой жары. Погибло множество людей, сбежавшихся в Кремль из окрестных городов и сел из боязни татарского нашествия. Тревога оказалась напрасной, так как татары не пошли к Москве, а великий князь был выпущен на свободу за большой выкуп. Это произошло 1 октября, и в тот же день Москва испытала необычное для нее явление: «…в 6 час нощи тоя потрясеся град Москва, Кремль и посад весь и храми поколебашеся». Землетрясение было небольшим, и спящие его не ощутили, бодрствующие же восприняли это как предвещение бедствий, и были «во мнози скорби».
Воспользовавшись отъездом великого князя в Троице-Сергиев монастырь, сторонники Шемяки в феврале 1445 г. ворвались обманом в Кремль, захватили его мать, жену и детей, разграбили великокняжескую казну. На следующий день в Москву привезли самого Василия Васильевича, захваченного в плен в Троице-Сергиевом монастыре. В среду на той же неделе, ночью, Василий был ослеплен.
В 1451 г. Москва снова увидела татар под своими стенами. Этот набег получил название «скорой татарщины». На этот раз Москва хорошо подготовилась к обороне и выставила заслон на Оке. Однако московский воевода испугался татар и очистил берег реки. Не встречая сопротивления, татары под начальством царевича Мазовши устремились к Москве и рано утром в пятницу 2 июля показались под ее стенами. Татары зажгли деревянные строения, и огонь обступил со всех сторон каменный Кремль, «…а тогда и засуха велика бе и с вся стороны огнь объят град». Дым заволакивал весь город и мешал видеть приготовления врага. Но приступы неприятеля к городским воротам и слабым частям крепости были отбиты. К вечеру татары отступили от Москвы, а утром обнаружилось, что они внезапно бежали. Мазовша получил какие-то неблагоприятные известия или решил, что бесполезно осаждать крепкий город с большим гарнизоном. В брошенном татарском лагере валялись награбленные вещи, особенно тяжелые предметы из железа и меди. Об этом событии любопытно рассказывается в одном житийном памятнике под заголовком «Чудо о скорой татарщине»: «И того же дня граждане, если и изнемогли от многия истомы и от дыма, но богом укрепляемые, силой препоясались, а начали выходить из града и храбрьски ополчилися и билися с сопротивными. И когда было к сумраку, отступили татары от града. Граждане ж к утру готовились на брань, милосердный же бог вложил в татарские сердца страх и трепет». На второй год после нападения царевича Мазовши и скорой татарщины Москва снова выгорела: «…выгоре Москва Кремль весь». Этот пожар случился также ночью.
НОВЫЙ РОСТ МОСКВЫ И НАЧАЛО КНЯЖЕНИЯ ИВАНА III
Окончание долгой междоусобной войны благоприятно отразилось на дальнейшем росте Москвы. Первым признаком восстановленного благосостояния столицы явилось возобновление строительства, получившего теперь новый размах. В 1458 г. воздвигли кирпичную церковь Введения Богородицы на Симоновском подворье. В 1459 г. была поставлена каменная церковь Похвалы Богородицы, сохранившаяся в составе Успенского собора как придел.
С этого времени строительство в Москве начало быстро развиваться. На монастырском дворе в Кремле, принадлежавшем Троице-Сергиеву монастырю, поставили каменную церковь Богоявления, у Боровицких ворот заложили каменную церковь Ивана Предтечи. Затем освятили каменную церковь Афанасия на Фроловских воротах. Начатое при Василии Темном каменное строительство продолжало расширяться при его сыне Иване III. В 1467 г. довели до конца постройку каменного собора в Вознесенском монастыре. Собор был заложен Евдокией Дмитриевной, вдовой Дмитрия Донского, до Едигеева нашествия, и строился более 60 лет, ясно показывая, какое время переживала Москва в первой половине XV в. Церковь воздвигалась на средства великих княгинь и была закончена вдовой Василия Темного, великой княгиней Марьей Ярославной.
Строителем церквей в Москве и реставратором ряда старинных церквей в других городах был Василий Дмитриевич Ермолин. Его «предстательством» начали обновлять «камнем» городскую стену от Свибловой стрельницы до Боровицких ворот. Живая струя повеяла и в самой технике строительства. Церковь Введения на Симоновском дворе сложили из кирпича («кирпичну»). Собор Вознесенского монастыря, оконченный в 1467 г., потребовал не только достройки, но и ремонта. Великая княгиня Мария Ярославна хотела его разобрать и построить новое здание, но Ермолин с мастерами каменщиками обломали горелый камень, разобрали своды и одели собор новым камнем и кирпичом, сведя своды «…яко дивитися всем необычному делу сему». На Фроловских воротах поставили резное изображение Дмитрия Солунского. Без всякого преувеличения можно сказать, что в Москве началась своего рода строительная горячка. Когда митрополит Филипп предпринял строительство Успенского собора, «предстателями» новой церкви сделались Ермолин и Иван Голова (Ховрин). Между ними начались споры («пря»). Ермолин отказался от подряда, а Голова стал руководить работами. Как видим, переустройство Кремля началось раньше приезда Аристотеля Фиоравенти и других итальянцев, которые принесли с собой ценные технические навыки, но сами работали в Москве под воздействием русской художественной школы и не в одиночестве, а среди русских мастеров и с их помощью.
Решительное переустройство Кремля и каменное строительство в нем при Иване III последовало вскоре после опустошительных пожаров. В 1467 г. погорела треть Москвы. Пожар начался ночью 20 октября поблизости от церкви на дворе Ховриных в Кремле и охватил «до третьей части города». Пожары особенно опустошали посад. Пожар 23 мая 1468 г. уничтожил всю приречную часть Великого посада от церкви Николы Мокрого до Васильевского луга. «Истомно же тогда было и нутри городу, понеже бо ветрено было, и вихор мног», но Кремль остался нетронутым огнем. Новый пожар охватил Великий посад в 1472 г. по самую Яузу, «и множество людей погоре».
Особенно был страшен пожар 4 апреля 1473 г. Ночью загорелось внутри города в Москве у церкви Рождества Богородицы, и погорело много дворов. «И митрополичь двор сгорел, и двор князя Бориса Васильевича по Богоявление на Троицком дворе, да по городские житницы, и двор житничный великого князя сгорел, а большой двор его едва силою отстояли, потому что великий князь был тогда в городе. Да по каменный погреб горело, что на дворе князя Михаила Андреевича в городской стене. И у церкви Рождества Пречистой кровля сгорела, также и городная кровля (т. е. на городских стенах.- М. Т. ), и, сколько ни было дворов по житничный двор, все выгорело»,- пишет современник.
Здесь мы заканчиваем свой обзор истории великокняжеской Москвы, которая при Иване III вступает в новый период.
ГЛАВА III. ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ ПРОТИВ КНЯЗЕЙ-СОВЛАДЕЛЬЦЕВ И БОЯР
БОЯРСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В МОСКВЕ
Вопрос об управлении Москвой и получении доходов от ее торгового и ремесленного населения имел важное значение для московских великих князей. Ведь Москва, как мы знаем, была крупнейшим городом Северо-Восточной Руси, если не считать Новгорода. Между тем владение Москвой было с самого начала чересполосным, и великие князья на первых порах не могли считать себя ее единственными владельцами. Так, в Москве XIV-XV вв. мы встречаемся с существованием в самом городе и ближайших к нему окрестностях устойчивого боярского землевладения.
Действительное значение боярского землевладения для ранней Москвы легко выясняется из любопытной московской топонимики. Многие подмосковные села, впоследствии вошедшие в черту города, носили имена их первых владельцев, а может быть и основателей, которых мы найдем в числе знатнейших московских бояр. В непосредственной близости к Кремлю, в современном Замоскворечье, например, находилось село Хвостово. Рядом с ним стояло Новохвостовское, где теперь церковь Николы в Пыжах. Еще И. М. Снегирев отметил происхождение названий этих московских урочищ: «Старое Хвостово от московского тысяцкого Алексея Хвоста, а от внука его Федора Пыжа смежное с Хвостовым урочище Пыжи».
Другой знатнейшей московской фамилии, Воронцовым-Вельяминовым, принадлежало село Воронцово, о котором до сих пор напоминает москвичам название улицы: Воронцово поле. Еще в самом начале XVI в. это село считалось подгородним. По Яузе располагались владения третьего крупного рода московских бояр – Свибловых. Эти села так и прозывались Свибловскими, и одно из них до сих пор называется Свиблово. Знаменитое село Воробьево, расположенное на горах того же названия, также восходит к боярскому роду Воробьевых, известному в середине XIV в.
Предания об отдельных городищах, разбросанных на территории Москвы, возможно, указывают на местоположение укрепленных боярских усадеб-городков. Можно предполагать, что захват их праздновался московскими князьями с не меньшей радостью, чем это делали их собратья – французские короли, получив в свои руки феодальные замки у ворот Парижа. Подтверждение мысли о характере первоначального боярского землевладения под Москвой можно видеть в том примечательном факте, что наиболее знатные боярские фамилии владели селами первоначально в непосредственной близости к Москве. Позже боярские подмосковные села перешли в руки великих князей, хотя боярские фамилии, владевшие ими, продолжали существовать и нередко стояли еще в первых рядах московского боярства.
Летописи только случайно говорят о боярских дворах, но отдельные летописные заметки все-таки проливают некоторый свет на характер боярского жилища в средневековой Москве. Так, в 1368 г. на Гавшине дворе сидел под стражей тверской князь Михаил Александрович. По такому же поводу упоминается Белеутов двор, на котором сидела жена суздальского князя Семена Дмитриевича, скрывавшаяся в Мордовской земле и плененная по приказу великого князя. Невольно рисуется картина крепкой боярской усадьбы с обширными хоромами, огороженными прочным забором или частоколом. В таких усадьбах жили бояре, окруженные младшими родичами, слугами и холопами. О мрачных трагедиях, совершавшихся в боярских хоромах, говорят случаи убийства господ их холопами.
Особой известностью пользовался в Москве двор князей Патрикеевых. Уже основатель этого знатного рода, князь Юрий Патрикеев, поставил двор, о размерах которого можно судить по тому, что в 1446 г. на нем жил великий князь Василий Темный по возвращении в Москву из плена. Двор по наследству перешел к князю Ивану Юрьевичу, а рядом с ним построились его «братаничи». Патрикеевы обосновались в Кремле целым боярским гнездом, в непосредственной близости к Боровицким воротам, там, где по преданиям XV в. некогда находилась первая московская церковь. Они быстро расширили свои владения (путем покупок) по направлению к Тимофеевским воротам, где приобрели, по крайней мере, три дворовых места.
Не позже 1491 г. великий князь Иван III выменял у Ивана Юрьевича его дворовые места в Кремле и дал ему новые у Заруба в Кремле же, всего 6 мест. При всей ограниченности размера дворов, 6 дворовых мест должны были занять довольно большую площадь. Из духовной Ивана Юрьевича Патрикеева, умершего в 1499 г., выясняется, зачем ему понадобилось несколько дворовых мест. Большой боярин жил в окружении многочисленной дворни, у него имелись свои вооруженные холопы, стрелки, псари, хлебопеки, бронники, повара, садовники, портные, обслуживавшие боярские нужды. Боярский двор в городе во всем напоминал боярскую усадьбу в деревне, только соответственным образом был меньшим по территории.
Боярский двор – неотъемлемая принадлежность боярского землевладения. Тесно связанные с великими князьями и политическими событиями, в фокусе которых находился княжеский дворец, бояре большую часть своей жизни проводили в Москве, но главные их богатства, основа их могущества – земельные владения – лежали вне Москвы. Знатнейшие боярские роды имели свои усадьбы в непосредственной близости к городу. Мы видели, как даже городские дворы бояр были своего рода крепкими замками, во всяком случае, считались надежными местами для заключения опасных политических соперников московских князей.
Загородные боярские усадьбы XIV- XV вв., конечно, весьма отдаленно напоминали увеселительные подмосковные во времена Елизаветы Петровны и Екатерины II, где большие господа отдыхали среди буколической природы, подстриженной по французской моде или организованной на живописный английский манер. В боярской усадьбе ранней Москвы угадывается крепкий замок, к которому лепились крестьянские постройки. В конечном итоге сущность феодального замка не меняется от того, что в Западной Европе он строился из камня, а в России укреплялся только глубоким рвом, валом и частоколом. Жизнь русского феодала в его замке проходила примерно так же, как и его собрата в западноевропейских странах. Пиры, охота, воинские походы, дерзкие разбои были на Руси явлением столь же распространенным, как и на Западе. Поэтому борьба великих князей с крупными боярами-феодалами – обычное явление уже в XIV-XV вв. Вот почему нельзя согласиться с той идиллической картиной боярско-княжеских отношений, которую рисует перед нами В. О. Ключевский в своей «Боярской думе»: боярин – «правительственный сведок» и «знахарь», ответственный свидетель и сотрудник князя по делам управления, давший ему слово на том и крест целовавший. Князь слушает его и думает с ним «"добрую думу, коя бы пошла на добро, потому что он лучше других знает "…добрые нравы и добрую думу и добрые дела", ведает, как князю "безбедно прожити" и "како княжити", чтобы его христианом малым и великим было добро». Московская действительность далека от этой картины именно потому, что и Москва, и Русская земля в XIV-XV вв. были несравненно богаче, чем представлялось В. О. Ключевскому.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОСКОВСКОГО БОЯРСТВА
Родословцы Московского государства любили бездоказательно выводить основателей московских боярских родов «из Орды», «из немець» и т. д. Это стояло в тесной связи с тем, что сами московские государи поддавались соблазну вести свой род «из Прус» и от самого кесаря Августа. Действительное же русское происхождение древних московских родов выясняется только из кропотливых изысканий, особым мастером которых был покойный Н. П. Лихачев. Поэтому остановимся только на нескольких родах из числа высшего московского боярства. Например, родословцы называют основателя фамилии Морозовых, некоего Михаила, «прушанином», который якобы приехал «из немец, из Пруские земли». Другой вариант сообщает, что первого Морозова звали Миша, что он сражался в Невской битве, а «…лежит в Новгороде у Михаила святого на Прусской улице». Церковь Михаила на Прусской улице упоминается нередко в летописях; там мог находиться камень с памятной надписью о боярине Михаиле. В XVI в., когда и московские государи повели себя «из Прус», Прусская улица превратилась в Прусскую землю, а «прушанин» – в пруса. Мода неправильно выводить русские дворянские фамилии обязательно из других стран сразу и бесповоротно отвечала на сложный вопрос о начале боярского рода. Поэтому «муж честен» обычно и появлялся из чужой земли и полагал начало знатному боярскому дому, а тем самым устранялся всякий разговор о том, кем был этот «муж честен» за границей.
Каким же образом родоначальник Морозовых оказался в Москве? Перед нами, видимо, без особой ошибки рисуется такая картина. Один из новгородских бояр с Прусской улицы, аристократического квартала в Новгороде, был боярином Александра Невского, вместе с которым отъехал позже из Новгорода в Суздальскую землю, вероятнее всего в Переславль, а оттуда он сам или его потомки перешли на службу к московским князьям.
Намеченный нами путь создания московского боярства находит себе подтверждение в истории другого рода – Кутузовых. По сказаниям родословцев, Кутузовы происходили от некоего Гаврилы, пришедшего «из немец» к Александру Невскому. У Гаврилы был сын Андрей, а у последнего – сын Прокша, «…а лежит в Новгороде Великом у Спаса в Нередицах». Новгородское происхождение Гаврилы едва ли подлежит сомнению, тем более что внук его носил типичное новгородское имя Прокша и был похоронен в церкви Спаса Нередицы, княжеском построении, находившемся в непосредственной близости к Городищу – княжеской подгородней резиденции. Позже дворянский род Кутузовых имел владения в Новгороде, а несколько Кутузовых в конце XV в. были боярами новгородского архиепископа. Переход новгородских бояр на службу к великим князьям может считаться явлением вполне закономерным, если принять во внимание ожесточенную внутреннюю борьбу в Новгороде, нередко кончавшуюся бегством новгородских бояр.
Однако при Александре Невском только начинала создаваться постоянная связь между некоторыми боярскими родами и определенной княжеской линией. Временем создания основного костяка московского боярства надо считать княжение Ивана Даниловича Калиты, с именем которого связано представление о начальной истории знатнейших боярских родов Московского княжества. Если верить родословным, то к Ивану Даниловичу выехали родоначальники Зерновых, Сабуровых, Годуновых, Плещеевых, Хапиловых, Квашниных, Бородиных и др.
Нет оснований полностью доверять противоречивым показаниям родословцев о начале того или другого боярского рода, но их согласные указания на имя Ивана Даниловича Калиты как на эпоху оформлений знатных фамилий московского боярства заслуживают всяческого внимания. В глазах позднейшего потомства имя Калиты вытеснило имена его предшественников и наследников, и только Дмитрий Донской оставил по себе такой же памятный след в родословцах.
Из кого же составлялся первоначальный слой московского боярства? Частью из тех бояр, которые служили уже Александру Невскому и его потомству. Но едва ли таких фамилий было много. Во всяком случае, память потомков не задерживалась на великом князе Юрии Даниловиче и на Данииле Московском, а обращалась ко времени Калиты, хотя отъезды бояр в Москву начались, несомненно, раньше. Так, отец Алексея митрополита отъехал из Чернигова еще до рождения Алексея, т. е. примерно до 1299 г., следовательно, при Данииле Александровиче. Таково происхождение древнейшего боярского рода Москвы, так как все остальные даты появления той или другой боярской фамилии в Москве относятся или к более позднему времени, или могут быть выведены только гадательным путем.
Важным моментом в истории московского боярства было присоединение к Московскому княжеству соседнего Переславля-Залесского, который едва ли был намного старше Москвы, но в XIII в. получил значение крупного центра. Условия для утверждения боярства и создания боярских фамилий, прочно связанных с определенными княжескими династиями, в Переславле, конечно, возникли раньше, чем в Москве. Свидетельством большего значения боярства в Переславле может служить хотя бы «Слово Даниила Заточника» с его выпадами против боярства – древнейший памятник, в котором уже сказывается антагонизм между боярством и дворянством. В Переславле должны были основаться те боярские роды, которые группировались вокруг Александра Невского и частично потянулись за своим князем из Новгорода в Суздальскую землю, когда герой Невской битвы сделался великим князем. Присоединение Переславля к Москве положило начало переходу переславских родов ко двору более сильного московского князя.
МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ-ТРЕТНИКИ
Великим князьям приходилось сталкиваться в Москве не только с боярством, но и со своими сородичами – князьями-совладельцами. Поэтому борьба великих князей с боярами все время перемежалась борьбой с князьями-сородичами, в интересах которых было сохранять территориальную раздробленность Москвы и совместное владение ею всем домом Калиты.
Совместное, «третное» владение Москвой началось после смерти Ивана Калиты (1340), завещавшего трем сыновьям «отчину свою Москву». Совместное владение Москвой потомками Калиты тотчас же потребовало какой-то договоренности между князьями-совладельцами. Три брата – Семен, Иван и Андрей – целовали крест у отцовского гроба и заключили договор, в котором вопросу о владении Москвой уделялось немало места. К сожалению, та часть договора, где говорится о правах князей в самой Москве, сохранилась очень плохо. Однако и наличные части договора позволяют судить о существовании в Москве великокняжеского тысяцкого и наместников князей-совладельцев, от которых могла учиниться «просторожа», т. е. какое-либо недоразумение или недосмотр. Наряду с тысяцким существовали наместники не только младших князей, но и самого великого князя, причем признавалось первенство великого князя: «Аже будешь на Москве, тобе судити, а мы с тобою в суд шли».
Наличие в Москве нескольких князей-совладельцев вызывало противоречия между великим князем и его удельными сородичами. Уже дети Калиты договаривались о разделе доходов с московских пошлин и судов. Братья уступали старшему Симеону на старейшинство полтамги, добавляя: «Аже будешь на Москве, тобе судити, а мы с тобою в суд шли». Позже княжеские доходы определялись в договоре Дмитрия Донского с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем. Владимир получил в своей московской доле треть в наместничестве, в тамге и мытах и в городских пошлинах.
МОСКОВСКИЕ ТЫСЯЦКИЕ
Уже А. Е. Пресняков отмечал, что существование князей-совладельцев в Москве способствовало независимости московских тысяцких, которые должны были каким-то, образом регулировать противоречивые интересы великого князя и его сородичей в Москве. Это верно, но положение московских тысяцких и без того было выдающимся, так как в их ведении находилось городское население, как и в других городах Северо-Восточной Руси. В первой половине XIV а власть тысяцких в Москве была настолько велика, что в договоре Симеона Гордого с братьями тысяцкому отведено место тотчас после великого князя. Выражение договора «мой тысяцкий» показывает, что тысяцкий назначался князем, но это не мешало тысяцким при поддержке бояр и горожан становиться грозной силой, с которой приходилось считаться самим великим князьям. Ведая судебной расправой над городским населением, распределением повинностей и торговым судом, тысяцкие вступали в близкие отношения с верхами городского населения, а при благоприятных условиях могли опереться на широкие круги горожан. Поэтому смена тысяцкого затрагивала интересы многих горожан и была важным политическим делом, а не просто сменой одного княжеского чиновника другим. Этим объясняется тенденция тысяцких передавать свою должность по наследству, что особенно заметно в Твери, где тысяцкие удержались значительно дольше, чем в Москве. В Твери должность тысяцкого сделалась наследственной в роде Шетневых; по их родословной тверскими тысяцкими были Михаил Шетнев, его сын Константин Шетнев и внук Иван Константинович Шетнев.
В Москве должность тысяцкого находилась также в руках знатнейших бояр – в первой половине XIV в. в родах Хвостовых и Воронцовых-Вельяминовых.
Родоначальник Воронцовых-Вельяминовых, Протасий, по родословным книгам был тысяцким при Иване Калите, но при том же князе позже сделался тысяцким Алексей Петрович Хвост, попавший в опалу при Симеоне Гордом. Поэтому уже в договорной грамоте Симеона Гордого с братьями отмечается, что Алексей Петрович «…вшел в коромолу к великому князю». Младшие братья, Иван и Андрей, обещают не принимать крамольника и его детей «…и не надеятись вы его к собе до Олексеева живота». Этого Алексея Петровича отождествляют с боярином Алексеем Босоволковым, ездившим в 1347 г. в Тверь за невестой Симеона Гордого, впоследствии его третьей женой Марией. Это предположение находит полную опору в одном, правда, позднем летописном известии. По родословным книгам, отцом Алексея был Петр Босоволков, бывший у великого князя наместником московским. Позднейшие родословные выводили Босоволкова «…ис цысарские земли из Риму», но это предание – обычная выдумка родословцев, старательно выводившая русские дворянские роды из-за границы.
Тотчас же после смерти Симеона боярин Алексей Хвост занял должность московского тысяцкого. Таким образом, запрещение Ивану и Андрею принимать Алексея как будто говорит о том, что младшие братья великого князя поддерживали тысяцкого. В 1356 г. Алексей Петрович был таинственным образом убит. Это произошло как-то удивительно непонятно, сообщает современник, «…точно он был убит неведомо от кого и неведомо кем, только оказался лежащим на площади; некоторые говорили, что на него втайне совещались и составили заговор, и так от всех общей думой, как Андрей Боголюбский от Кучкович, так и этот пострадал от своей дружины». Летописец, писавший эти строки, видимо, знал больше, чем хотел сказать, но и без того сравнение Алексея Петровича с Андреем Боголюбским, а убийц – с Кучковичами очень показательно. Симпатии современников были на стороне убитого, а не его убийц.
Кто же принадлежал к дружине Алексея Петровича? Воскресенская летопись к словам «общею думою» прибавляет слово «бояр». Типографский летописец сообщает: «…нецые же глаголют, яко общею думою боярскою убьен бысть». В Никоновской летописи читаем об отъезде из Москвы в Рязань «…больших бояр московских» и возвращении в Москву только через год боярина Михаила и брата его Василия Васильевича Воронцова-Вельяминова. Отъезд бояр поставлен в тесную связь с тем, что «…бысть мятеж велий на Москве ради того убийства»
А. Е. Пресняков правильно видит во всех этих событиях мотив борьбы за должность тысяцкого и связанное с ней значительное влияние и особое положение тысяцкого. Но дело было не только в этом, айв том, что тысяцкие стояли в исключительной близости к городскому населению. Поэтому убийство тысяцкого затронуло широкие круги москвичей-горожан, в первую очередь купцов. Среди больших бояр, отъехавших из Москвы, назван представитель другого московского боярского рода, из числа которых выходили тысяцкие, – Василий Васильевич Воронцов-Вельяминов. Должность тысяцкого была наследственной в его роде: «А у Протасья сын Василий, а был тысяцкой же, а у Василия 4 сына: большой Василий, а был тысяцкой же»,- читаем в родословной книге. В «мятеже велием», случившемся после смерти Алексея Петровича, принимали участие враждующие боярские группировки и горожане, не забывшие еще вечевых традиций русских городов первой половины XIV в. Не случайно же в одном летописном известии москвичи названы типичным термином, обозначавшим в Древней Руси свободных людей: «мужи москвичи». В истории с убиением тысяцкого Алексея надо предполагать гораздо более глубокую подоплеку, чем простая боярская интрига. Это – этап в борьбе горожан за их привилегии, которым угрожала великокняжеская власть. Подобное предположение найдет себе подтверждение в дальнейшей истории московских тысяцких.
Княжение Ивана Ивановича Красного и малолетство Дмитрия Донского были временем, когда прежние порядки сохранялись еще очень устойчиво. Этому помогало то обстоятельство, что в Москве был единственный князь-совладелец, с которым приходилось сталкиваться великому князю. Дело в том, что по смерти Симеона Гордого его треть перешла к Ивану Ивановичу Красному, в руках которого, таким образом, соединилось владение двумя третями Москвы. Одна же треть Москвы осталась у Владимира Андреевича как наследника умершего Андрея Ивановича.
Отношения между великим князем и князем-третником постоянно определяются в договорных и духовных великих князей. Например, Иван Иванович, приказав «отчину свою Москву» сыновьям Дмитрию и Ивану, устанавливал права младшего князя-совладельца: «А братаничу своему князю Володимиру на Москве в наместничестве треть, в тамзе, в мытех и в пошлинах городьских треть, что к городу потягло». И все остальные доходы шли для раздела «все на трое», подобно тому, как «…вси три князя блюдуть сопча с одиного» численных людей. Известно, что Иван, младший брат Дмитрия Донского, умер в малолетстве, и владение Москвой по-прежнему удержалось только в руках великого князя и его двоюродного брата, Владимира Андреевича.
Отношения между великим князем и его удельным собратом определялись и в договоре Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем 1388 г., по которому устанавливалось безусловное первенство великого князя в Москве: «А судов ти московьских без моих наместников не судити, а яз иму московьскый суды судити; тем ми ся с тобою делити». Таким образом, соглашаясь делиться доходами, великий князь оставил за собой право московского суда, хотя тут же дал обязательство совместно («…блюсти ны с одного») ведать городских людей и в службу их не принимать.
УПРАЗДНЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ТЫСЯЦКИХ
В договорах нет указаний на отношение князей-совладельцев к московским тысяцким, но при Дмитрии Донском как раз и произошло упразднение в Москве должности тысяцких, что было важным мероприятием в сторону дальнейшей централизации власти в самой Москве. Должность тысяцкого отменили после смерти упомянутого ранее тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, последовавшей 17 сентября 1373 г.
О значении Василия Васильевича как тысяцкого узнаем из одной грамоты, относящейся к княжению Дмитрия Донского, данной новоторжцу Евсевке. Издатели снабдили этот документ пояснением: «…по случаю переселения его из Торжка в Кострому». Осторожнее было бы сказать, что Евсевка завел в Костроме торги или промыслы и потому был освобожден от поборов и повинностей. В этом случае становится понятным добавление к грамоте: «А приказал есмь его блюсти дяде своему Василью тысяцькому; а через сю грамоту кто что на нем возметь, быти ему в казни». Здесь тысяцкий выступает в роли охранителя интересов торговых людей.
О самой личности Василия известно мало, но одна черточка показывает его в довольно неприглядном виде. На свадьбе Дмитрия Донского московский тысяцкий подменил княжеский пояс, подсунув князю «меньшой» пояс, а украденный, лучший, передал своему сыну Микуле (Николаю). Обмен долгое время оставался незамеченным и обнаружился только через 60 с лишним лет.
В Москве фамилия Вельяминовых занимала выдающееся место и породнилась с княжескими домами. Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича была замужем за Дмитрием Донским, другая дочь за сыном тысяцкого Микулою Вельяминовичем. Жена тысяцкого Мария крестила Константина, младшего сына Дмитрия Донского. Современники, говоря о кончине Василия Васильевича, называют его «последним тысяцким», что указывает на сознательное стремление великого князя упразднить опасный пост тысяцкого. Это должно было затронуть интересы довольно широких городских кругов Москвы. Указание на недовольство каких-то слоев населения упразднением должности тысяцких находим в летописи. В 1375 г. сын умершего тысяцкого Иван Васильевич бежал в Тверь вместе с Некоматом Сурожанином «…со многою лжею и льстивыми словесы». Этот Некомат, по-видимому, был грек, основавшийся в Москве и торговавший с Сурожем. Московские летописи называют его неопределенным и обидным термином «брех», но они же говорят, что Некомат привез 14 июня 1375 г. тверскому князю Михаилу Александровичу ярлык на великое княжение. Значит, был человеком, известным в Золотой Орде.
В 1378 г. в битве на реке Воже захватили попа, пришедшего из Орды. Это был поп бежавшего Ивана Васильевича. У попа нашли «…злых лютых зелей мешок», какие-то смертельные яды. В следующем году хитростью был пойман сам Иван Васильевич – его «словили» в Серпухове и привезли в Москву. 30 августа 1379 г. на Кучковом поле состоялась публичная казнь неудачного претендента на должность тысяцкого, его казнили мечом до обеда, в 4 часа дня. «И бе множества народа стояще, и мнози прослезиша о нем и опечалишася о благородстве его и о величествии его». В 1383 г. был убит Некомат.
В скупых и разрозненных известиях о сыне тысяцкого Иване Васильевиче и Некомате чувствуется рассказ о чем-то большом и недоговоренном. Публичная казнь Ивана Васильевича была делом необычным для Москвы и произвела впечатление на москвичей. Можно не сомневаться в том, что Некомат имел сторонников среди купеческих кругов и что затронуты были крупные купеческие интересы, по нашему предположению, интересы гостей, торговавших с Сурожем, для которых поддержание мира с Золотой Ордой было чрезвычайно важно, так как дорога из Москвы к Черному морю шла по золотоордынской территории.
Реформа Дмитрия Донского имела и какое-то внутреннее значение, затрагивала интересы «множества народа», оплакивавшего смерть Ивана Васильевича. Недаром же Никоновская летопись, дающая кое-какие подробности, отсутствующие в других летописях, называет Ивана Васильевича «тысяцким», а не сыном тысяцкого и рассуждает о необходимости повиноваться даже строптивым владыкам. А кто же был этим строптивым владыкой, как не Дмитрий Донской? Не одни гости-сурожане, но и другие слои горожан должны были потерпеть ущерб от уничтожения должности тысяцкого. Это могло быть связано с умалением прав городского населения, а что московская действительность царского времени XVI-XVII вв., не знавшая для Москвы общегородского самоуправления, была явлением позднейшим, видно из остатков самоуправления сотен, додержавшихся до конца XVII в.
БОЛЬШИЕ НАМЕСТНИКИ
На месте тысяцких в Москве была учреждена должность наместника, обязанности которого были близки к обязанностям тысяцкого, но с тем отличием, что наместник находился в большей зависимости от великого князя. Теперь судебные дела решались «большим наместником московским». Такой порядок установился с начала княжения Василия Темного. Вдовствующая княгиня Софья Витовтовна сделала боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского московским наместником. Это могло произойти не ранее 1425 г., года смерти великого князя Василия Дмитриевича, и не позже 1433 г., когда Иван Дмитриевич перешел на сторону Юрия Галицкого. Сама же должность больших наместников московских, по-видимому, была установлена еще до Софьи Витовтовны и учреждена тотчас после уничтожения должности тысяцких при Дмитрии Донском. Многочисленные подписи Ивана Дмитриевича на жалованных грамотах показывают, что он был наместником уже при Василии Дмитриевиче.
Реформа Софьи Витовтовны сводилась к тому, что она подчинила наместничьему суду все городские дворы без изъятия, в том числе дворы городских удельных князей, чем нарушались права последних. Переход всех дворов под судебную власть большого наместника должен был вызвать недовольство удельных князей как шаг, направленный к умалению их феодальных прав. Следовательно, этот переход надо учитывать как один из поводов к феодальной войне середины XV в.
Значение должности большого наместника выясняется из биографии названного Ивана Дмитриевича Всеволожского. Род Всеволожских-Заболотских был выдающимся среди московских бояр. Им принадлежали многие вотчины в Переславском уезде. Самое прозвище Заболотских они, возможно, получили от Заболотья, местности, лежавшей поблизости от Переславского и Сомина-озер. Иван Дмитриевич состоял в родстве с княжескими домами Москвы и Суздаля и с последним московским тысяцким Василием Вельяминовым. Ловкий политик, он занял особое положение при дворе малолетнего великого князя Василия Васильевича и его матери Софьи Витовтовны. В 1432 г. он ездил с Василием Васильевичем, достигшим к этому времени семнадцатилетнего возраста, в Орду и добился для своего господина получения ярлыка на великое княжение, на который претендовал дядя великого князя Юрий Дмитриевич. Летопись красочно повествует о ловких ходах Ивана Дмитриевича в пользу своего князя. На стороне Юрия был ордынский князь Ширин-Тягиня, пользовавшийся большим весом в Орде. Разжигая зависть и опасения других ордынских вельмож, Иван Дмитриевич говорил им: «В чем же забота ваша о нашем государе великом князе, если хан не может ослушаться слова Тягини; да что с вами будет, когда князь великий Юрий будет сидеть на Москве, в Литве его побратим, великий князь Свидригайло, а Тягиня будет распоряжаться в Орде?» Этот хитрый ход восстановил против Юрия не только ордынских вельмож, но и самого хана. Нет ничего удивительного в том, что спор дяди с племянником о великом княжении кончился в пользу племянника.
Иван Дмитриевич рассчитывал на брак своей внучки с молодым великим князем, но Василий женился на княжне Марии Ярославне. Внучка бежавшего боярина была обручена с князем Василием Косым, сыном Юрия Дмитриевича, а сам Иван Дмитриевич сделался неумолимым врагом своего прежнего господина и при первых же переговорах между дядей и племянником «…не дал о миру ни слова молвити». Имя Ивана Дмитриевича встречается на многих грамотах как припись доверенного боярина великого князя начиная примерно с 1415 г.
Большой наместник и третники были облечены крупными судебными полномочиями. Наместнику подчинялись по суду об убийствах все московские дворы без изъятия, в том числе дворы митрополита, великой княгини, монастырей и самого великого князя. Судьи крупных феодалов, имевших владения в Москве, только присутствовали на суде наместника и смотрели «своего прибытка», т. е. получали пошлины с людей, подвластных их господам. Наместник с третником судил дела о душегубстве, о кражах с поличным, о нанесении бесчестья и т. д. Он же устанавливал для враждующих сторон «поле» – судебный поединок, весьма распространенный в московском законодательстве. Местом поединка была площадка церкви Троицы на Старых полях, находившаяся в Китай-городе поблизости от того места, где теперь стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову. Наместник с третником судил всех людей, пойманных с поличным в Москве, не отсылая преступников в другие города по обычной подсудности. Таким образом, наместничий суд в Москве со времени его установления при княгине Софье Витовтовне, не позднее 1433 г., был судом централизованным. Московские судебные порядки в основном послужили образцом для статей Судебника 1497 г.
Из записи о московском суде узнаем о существовании в Москве тиуна великого князя и судей. Тиун был судьей великого князя и многочисленных великокняжеских людей. Он разбирал те дела, которые не касались душегубства и кражи с поличным. Слободы московских феодалов также имели свой внутренний суд; поэтому при наместничьем суде присутствует какой-нибудь судья, «…своего прибытка смотрит». Московский тиун великого князя, как об этом можно судить по документам XVI в., производил свой суд в присутствии целовальников из московских ремесленников и дворского. Едва ли это было новизной XVI в., связанной с введением губных грамот, потому что уже в договорах великих и удельных князей имелось условие: «…а который слуги, потяг-ли к дворьскому, а черные люди к сотником». Окончательное решение дела производилось введенными боярами (в одном случае дворецким, в другом казначеем) по докладу тиуна, должность которого обычно попадала в руки дворянина средней руки.
Во время междоусобной борьбы середины XV в. совместное владение Москвой способствовало неудачам Василия Темного. В городе сидел Ватазин, тиун Дмитрия Шемяки, усердно действовавший в его пользу. О Ватазине, позднее высланном из Москвы великим князем, сообщает соборная грамота русского духовенства, адресованная Шемяке: «И ты, господине, шлешь к своему тиуну к Ватазину свои грамоты, а велишь ему отзывати от своего брата старейшего, от великого князя людей; а велишь звати людей к собе». В той же грамоте находим немало ссылок на «…старину, что жити вам в Москве», т. е. на права великого князя и его князей-совладельцев в их общей вотчине Москве.
КОНЕЦ ТРЕТНОГО ВЛАДЕНИЯ
Третное владение ушло в прошлое только к концу XV в. Еще Дмитрий Донской по традиции отдал «отчину свою Москву» четырем своим сыновьям. Впрочем, на этот раз из двух третей, или жеребьев, Москвы половина была отдана одному старшему сыну Василию, а другая половина остальным трем сыновьям – Юрию, Андрею и Петру; младший Константин в духовной не был упомянут вовсе. Кроме того, половина доходов от тамги и весь доход от восмьничего поступал в пользу княгини-вдовы. В руках Владимира Андреевича осталась его треть, или один жеребий, Москвы. Из дальнейшего выясняется, что половина двух жеребьев, доставшаяся старшему Василию, в действительности и была третью, т. е. речь опять шла о доходах, а не о территории Москвы.
Перед своей смертью Владимир Андреевич (в 1410 г.) поступил совершенно так же, как его двоюродный брат. Он завещал «вотчину свою Москву», свою «…треть, чем мя благословил отец мой», своим сыновьям – Ивану, Семену, Ярославу, Андрею и Василию. В Москве оказалось около десятка князей-совладельцев. В пользу старшего сына Ивана были выделены особые пошлины, но в остальном дети Владимира должны были пользоваться своими правами в Москве по годам («ведают по годом»). Ранняя смерть сыновей Владимира Андреевича, оставшихся, кроме Ярослава, бездетными, привела к тому, что его треть снова оказалась в руках одного владельца – Василия Ярославича. В 1433 г. в договоре с Василием Темным он называет уделом своего деда Владимира Андреевича «треть в Москве и в пошлинах».
Почти одновременно с вымиранием потомков Владимира Андреевича происходило сокращение числа представителей старшей ветви княжеского рода. Смерть бездетного Петра Дмитриевича в 1422 г. и гибель сыновей Юрия Дмитриевича привели к тому, что из всех совладельцев старшей великокняжеской линии кроме самого Василия Темного остались дети только Андрея Дмитриевича Можайского – Иван и Михаил, так как «…жеребей княжь Юрьев в Москве со всеми пошлинами» перешел в руки Василия Темного. Тем не менее в середине XV в. в Москве все-таки оставались три княжеские линии, владевшие особыми правами:
1) великий князь Василий Темный,
2) Василий Ярославич,
3) Иван и Михаил Андреевичи.
Все они выступают вместе как московские отчичи в договоре 1447 г. с рязанским князем Иваном Федоровичем: «Имети ти меня себе братом старейшим, а брата моего молодшего князя Ивана Андреевича имети ти себе братом, а брата нашего молодшего князя Михаила Андреевича имети ти себе братом молодшим, а брата нашего молодшего князя Василья Ярославича имети ти себе братом же молодшим». Но вскоре треть Василия Ярославича попала в руки великого князя, посадившего московского князя-третника в заточение.
В год смерти Василия Темного у него оказалась почти вся Москва. К нему же отошла часть жеребья Андрея Дмитриевича: «год княжь Иванов Можайского», так как Иван Можайский завещал свой жеребий великому князю. Тем не менее дробное деление Москвы было восстановлено самим Василием Темным, так пострадавшим от семейных распрей за власть. На смертном одре в 1462 г. он завещал старшему сыну Ивану «треть в Москве и с путми»; Юрий и Андрей получили треть Василия Ярославича, именовавшуюся по имени Владимира Андреевича «Володимеровскою», которую они должны были разделить по половинам, «а держати по годом»; Борис был благословлен «годом княжым Ивановым Можайского»; а Андрей Меньшой – «годом княжым Петровым Дмитриевича». Все эти князья-отчичи и выступают в договоре Ивана III с тверским великим князем Михаилом Борисовичем.
Новое дробление власти в Москве продержалось опять-таки недолго. В 1472 г. умер Юрий Васильевич, в 1481 г. за ним последовал Андрей Меньшой. Оба князя были бездетными и завещали свои жеребья Ивану III. Таким образом, их уделы и жеребья вернулись в руки великого князя. К нему же перешел жеребий и Андрея Васильевича Большого, посаженного в темницу и в ней умершего. Из всех боковых княжеских линий московские жеребья остались только у Михаила Андреевича Верейского и Бориса Васильевича Волоцкого, но уже в 1483 г. верейский князь обязался отдать удел после своей смерти Ивану III.
В 1486 г. было составлено духовное завещание, в котором Михаил Андреевич «благословил» своим уделом великого князя, нарушив права собственного сына Василия, конечно, не без давления со стороны Ивана III. Не остался без внимания и жеребий Бориса Васильевича Волоцкого, перешедший после его смерти к сыновьям – Ивану и Феодору. Бездетный Иван Борисович завещал свой год великому князю. К концу правления Ивана III остался в живых только один князь, владевший в Москве жеребием,- это Феодор Борисович Волоцкий. Насколько права Феодора в Москве были незначительны, видно из того, что Борис Васильевич держал «…год княж Ивановской Андреевича, и тот год приходил брата моего Борисовым детем обема дръжати на Москве своего наместника на шостой год». Феодор Борисович получил право держать наместника своего на каждый шестой год только в течение полугода.
Иван III уже не вернулся к практике своего отца. Он завещал старшему сыну Василию «…город Москву с волостьми и с путми». К Василию перешли две трети Москвы, принадлежавшие старшей княжеской линии, и одна треть младшей линии, одним словом, – весь город. Уступка старине заключалась только в том, что Василий III совместно с братьями должен был, переменяя «по годом», держать наместников на годах Константина Дмитриевича, Петра Дмитриевича и Михаила Андреевича. Итак, конец дробному владению Москвой окончательно произошел лишь в начале XVI в. в связи с общей централизацией и созданием Московского государства.
Отказавшись от чересполосного деления Москвы между наследниками, Иван III выделил младшим детям особые московские слободки, которым была учинена граница и причислены некоторые посадские дворы. Особенно значительна площадь, отведенная Юрию Ивановичу. «Отвод… Сущевскому селцу и двором городцким», полученным Юрием, напечатан в Собрании государственных грамот и договоров. Так окончилась почти двухсотлетняя система владения Москвой по жребиям. Василий III и Иван Грозный владели всей Москвой и не делились властью с представителями младших княжеских линий.
ГЛАВА IV. МОСКОВСКАЯ ТОРГОВЛЯ И МОСКОВСКОЕ КУПЕЧЕСТВО
МОСКВА-РЕКА И ДОНСКОЙ ПУТЬ
Как бы мы ни оценивали значение торговли в средневековое время, мы все-таки должны признать ее одним из важнейших факторов, способствовавших росту или упадку городов. Если возвышение Москвы нельзя объяснять только ее географическим положением, выгодным для торговли, то в равной степени это положение нельзя и игнорировать. К тому же самые торговые пути складывались постепенно, исторически, а не вылупились, как цыпленок из яйца, внезапно и неожиданно. В нашу задачу и входит выяснение того, какие условия способствовали торговому процветанию Москвы в XIV-XV вв.
Основная водная магистраль, способствовавшая росту нашего города, – река Москва. Под городом Москва-река достигает значительной ширины, а для древнего судоходства была вполне доступна и выше, по крайней мере, до впадения в нее реки Истры. От Москвы течение реки становится глубже и удобнее для судоходства, хотя даже в XVII в. большие речные суда нередко ходили только от Нижнего Новгорода, так как путь по Москве-реке и Оке изобиловал прихотливыми мелями.
Важнейшими направлениями, куда выводила Москва-река, были Ока и Волга. По Москве-реке добирались до Коломны, уже в XIV в. получившей крупное торговое и стратегическое значение. Существование особой коломенской епархии, известной с XIV в., подчеркивает значение этого города.
От Москвы до Коломны добирались в среднем за 4-5 суток. У Коломны речной путь раздваивался: с одной стороны можно было спускаться по Оке к Рязани и Мурому, с другой – подняться к ее верховьям. Важнейшее направление было первое – вниз по Оке, потому что оно связано с двумя великими водными путями: донским и волжским, причем больше с первым, чем со вторым.
От Коломны доходили до Переяславля-Рязанского (современной Рязани) по Оке в летнее время примерно в 4 – 5 суток. Отсюда начинался сухой путь к верховьям Дона, где по списку русских городов начала XV в. указан город Дубок. Митрополит Пимен вез из Переяславля к Дону на колесах 3 струга и 1 насад. Путь от Переяславля до Дона занял 4 суток, а всего от Москвы до Дона путешествие Пимена продолжалось менее двух недель. Место, где митрополит и его спутники сели на суда, в сказании о поездке Пимена в Царьград не указано, но его можно установить приблизительно. Суда спустили на реку в четверг на Фоминой неделе, а на второй день путники прибыли к урочищу Чур-Михайлов, где кончалась Рязанская земля. В этом месте рязанские бояре и епископ простились с митрополитом и повернули обратно. Значит, суда спустили на реку севернее Чур-Михайлова, в районе Дубка. От Дубка начиналось речное путешествие по Дону до Азова, которое занимало 40 дней.
Пимен и его спутники потратили на переезд от верховьев Дона до Азова примерно 30 дней (от четверга на Фоминой неделе до Вознесенья). Таким образом, все путешествие от Москвы до устья Дона продолжалось примерно 40 дней.
В устье Дона путники пересаживались на морские суда. Об их размерах дают представление слова сказания о существовании на корабле «помоста» – палубы, под которой помещались пассажиры, вышедшие однажды на шум из-под помоста. Корабль Пимена плыл по следующему маршруту: по Азовскому морю до Керченского пролива, а оттуда «на великое море», т. е. по Черному морю, на Кафу (Феодосию) и Сурож. От Сурожа пересекали Черное море поперек и доходили до Синопа, от которого двигались вдоль берега Малой Азии, мимо Амастрии и Пандоракли до Константинополя.
Морское путешествие от устья Дона до Царьграда занимало, как видим, месяц, а весь путь от Москвы до Царь-града – 2,5 месяца.
Путешествие Пимена дает нам возможность установить маршрут от Москвы до Константинополя и время, нужное для его прохождения, но оно малотипично для торговых поездок, совершаемых купцами. Митрополит спешил в Константинополь и не остановился в Кафе и Суроже. А между тем именно эти места более всего посещались русскими купцами, торговавшими со средиземноморскими странами.
СУРОЖ, ИЛИ СУДАК
Из этих городов для московской торговли наибольшее значение имел Судак, или Сурож, от которого получили свое название купцы – «гости-сурожане», а также Кафа. Русские поселения в том и другом городе восходят к очень отдаленному времени. Так, в одном известии начала XIV в. упоминается русская церковь. В 1318 г. папа Иоанн XI в. создал в Кафе епископство, включавшее всю территорию до Сарая и России. Однако торговавшие с черноморским побережьем русские купцы носят название именно сурожан, а не какое-либо другое имя, которое мы могли бы произвести от Кафы.
С какого же времени именно Сурож, или Судак, стал играть такую видную роль в русской торговле? Время это, кажется, можно определить первой половиной XIV в. Так, уже в записях греческого иерарха XIV в., в котором основательно видят митрополита Феогноста, находим имена двух сугдайцев (т. е. сурожан). Георгий Сугдаец дал иерарху 1 кавкий (византийскую монету), в другой записи назван Порник, сугдаец. Обе записи издатели документа относят к 1330 г.
Причины, выдвинувшие Сурож на первое место в русской торговле, находят объяснение в его географическом положении и политической обстановке XIV в. Сурож с его прекрасной гаванью являлся наиболее близким пунктом к Синопу на малоазиатском берегу. Поэтому Сурож, естественно, сделался пунктом, куда съезжались с севера русские и золотоордынские купцы, а с юга греки и итальянцы. Русские источники даже Азовское море иногда называли морем Сурожским. Город находился под непосредственным управлением ханских наместников, следовательно, русские купцы, торговавшие там, подпадали под покровительство хана, что облегчало им трудное путешествие в пределах Золотой Орды. Положение в корне изменилось, когда генуэзцы овладели Сурожем в 1365 г., воспользовавшись смутами между ханами. Однако уже вскоре Мамай, стоявший во главе Золотой Орды, попытался вернуть город. Энергичные действия Мамая увенчались частичным успехом и захватом нескольких местечек на берегу Крыма. Сурож остался в руках генуэзцев.
Вопрос о владении Сурожем имел немаловажное значение для московских князей. Столкновение между Мамаем и Дмитрием Донским в немалой степени вызвано стремлением Мамая наложить свою руку на русскую торговлю со Средиземноморьем. Этим объясняется участие фрягов (т. е. итальянцев) в походах Мамая и позже Тохтамыша на Москву, а также участие в походе Дмитрия на Куликово поле 10 гостей-сурожан. После поражения Мамай побежал в Кафу, где был убит, потому что кафинцы «…свещашася и сотвориша над ним облесть». Темные и неясные известия летописей об отношении Мамая к фрягам становятся понятными, если мы вспомним о договорах генуэзцев с татарскими ханами в 1380-1381 гг. В числе других условий договоры гарантируют для купцов безопасность проезда по территории Золотой Орды. Иными словами, генуэзцы волей или неволей должны были идти на сделки с ханами и оказывать им поддержку. Поэтому в подготовке враждебных действий против Москвы принимал участие и некий Некомат, сурожанин. Торговые интересы Москвы требовали непрерывного внимания к событиям, развертывавшимся в XIV в. на берегах Черного моря. Это нашло свое отражение в хождении митрополита Пимена, который, раньше чем добраться до Константинополя, добивался «…вестей о Амурате царе» и его войне с сербами. Позже мы узнаем об особых отношениях Пимена с турками.
РУССКИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
Сурож был, впрочем, только перевалочным пунктом, конечной точкой русской торговли на юге являлся Константинополь. Об этом нам убедительно говорят русские паломники, упоминающие о встречах с соотечественниками на улицах византийской столицы. Митрополита Пимена встретила «Русь, живущая тамо, и бысть обеим радость велия». Среди русских найдем, конечно, монахов, временно живших или осевших в Константинополе, но не только они радостно встречали русского митрополита и его спутников. Когда приезжие посетили церковь Иоанна Предтечи («Продром»), «…упокоиша нас добре тамо живущая Русь».
Русская колония в Константинополе состояла не из одного духовенства. О встречах с соотечественниками говорят и другие русские люди, посетившие византийскую столицу в XIV- XV вв. Недаром у автора «Хождения Пимена» осталось в памяти угощение, устроенное митрополиту и его людям земляками, которые «добре» угостили («упокоили») дорогих гостей, прибывших с родины. Русь жила у церкви Иоанна Предтечи, в непосредственной близости к Золотому Рогу, на северном берегу которого располагалась Галата, город генуэзцев, с его пестрым населением и особыми правами. Русские, видимо, жили и в самой Галате, иначе непонятно, почему неудачный кандидат на русскую митрополию Митяй, умерший на корабле в виду самого Константинополя, был отвезен в Галату и там погребен.
Путь из Москвы по Дону являлся кратчайшим, но вовсе не единственным. В некоторых случаях ездили из Москвы в Константинополь по волжскому пути до Сарай-Берке на средней Волге, а оттуда по суше к Дону и вниз по нему до Азова. Этой дорогой ходил в Царьград суздальский епископ Дионисий в 1377 г., спустившийся на судах к Сараю. Наконец, существовал и третий путь из Москвы в Константинополь, который, впрочем, имел важное значение не столько для самой Москвы, сколько для западных русских городов: Новгорода, Смоленска, Твери. Этот маршрут пролегал по территории Литовского великого княжества к Белгороду, или Аккерману, имевшему немаловажное торговое значение в XIV-XV вв. Такой дорогой ехал в Константинополь, например, иеродиакон Троице-Сергиева монастыря. От Аккермана он добрался морем до Константинополя, испытав все опасности непривычного для него морского плавания: «…с нужею доидохом устья цареград-скаго, тогда бывает футрина великая и валове страшнии». Зосима шел из стольного города – Москвы на Киев и оттуда на Белгород.
В конечном итоге все дороги с русского севера сходились к Константинополю. Прямой же кратчайший путь на север шел по Дону и выводил к Москве. Таким образом, Константинополь на юге и Москва на севере были конечными пунктами громадного и важного торгового пути, связывавшего Россию с Средиземноморьем.
МОСКОВСКАЯ ТОРГОВЛЯ С ИТАЛЬЯНСКИМИ КОЛОНИЯМИ
Торговля с Сурожем и Константинополем получила особенное развитие во второй половине XIV столетия. В это время она была, можно сказать, определяющей торговое значение Москвы. Торговые связи с югом интенсивно поддерживались и в XV в., но наряду с ними все более проявлялось усиление торговли Москвы с Поволжьем и Западом через Новгород и Смоленск. В конце XV в. главным средоточием русской торговли на берегах Черного моря становится уже не Сурож, а Кафа. В Кафе, как и в Азове, сидит турецкий губернатор, и потому главный поток русской торговли, по-прежнему направлявшийся в Константинополь и другие города Малой Азии, в основном идет через эти пункты.
Уже И. Е. Забелин предполагал, что «Москва, как только начала свое историческое поприще, по счастливым обстоятельствам торгового и именно итальянского движения в наших южных краях, успела привлечь к себе, по-видимому, особую колонию итальянских торговцев, которые под именем сурожан вместе с русскими заняли очень видное и влиятельное положение во внутренних делах». С этим замечанием соглашается новейший исследователь московской торговли XIV-XV вв.
Связи Москвы с итальянскими колониями в Крыму были постоянными и само собою разумеющимися. Поэтому фряги, или фрязины, не являлись в Москве новыми людьми. Историки, впрочем, до сих пор не отметили ту любопытную черту, что московские торговые круги в основном были связаны не вообще с итальянскими купцами, а именно с генуэзцами. Выдвижение в митрополиты Митяя и поставление в митрополиты Пимена не прошли без участия генуэзцев, как это отметил еще Платон Соколов в исследовании о взаимоотношениях русской церкви с Византией. Пимен прибыл в Константинополь осенью 1376 г., вскоре после воцарения Андроника IV, свергнувшего с помощью генуэзцев своего отца Иоанна V. Деньги, понадобившиеся Пимену для поставления в митрополиты, были заняты «у фряз и бесермен» под проценты. Упоминание о бесерменах чрезвычайно любопытно, так как речь идет явно о турках, с которыми генуэзцы старались ладить, заботясь о непрерывности торговых связей с Причерноморьем. Перед нами приподнимается завеса над важными политическими интересами, вступавшими в борьбу между собой под прикрытием чисто церковного вопроса о том, кто будет русским митрополитом. Недаром соперник Митяя, митрополит Киприан, заявлял: «…тии на куны надеются и на фрязы, яз же на бога и на свою правду». В деле поставления Пимена итальянцы (фряги) сыграли, несомненно, крупную роль.
ХАРАКТЕР МОСКОВСКОЙ ТОРГОВЛИ С ПРИЧЕРНОМОРЬЕМ
В торговлю Москвы с Константинополем, Кафой и Сурожем втягивались русские, итальянские и греческие купцы. О ее характере дает представление заемный документ, «кабала», выданная ростовским архиепископом Феодором совместно с митрополитом Киприаном на 1 тыс. новгородских старых рублей. Кабала была дана в Константинополе Николаву Нотаре Диорминефту. В ней видим прямое обязательство помогать греческим купцам: «Аще единою страною Рускою возвратятся, имаемся приводи их и всю торговлю их своими проторы и наймом, и промыт, и прокорм, даже до рекы Богу». В кабале показан путь в Византию, шедший к реке Буг, следовательно, в направлении на Белгород (Аккерман) на берегу Черного моря. Устанавливается и основной товар – меха («…белкы добрыя тысячу по пяти рублев»). При дальности доставки этот товар имел наибольшее значение в русской отпускной торговле с Средиземноморьем. Наряду с мехами надо предполагать и такие русские товары, как воск и мед, которые находили постоянный сбыт в ганзейских городах, торговавших с Новгородом. Привозные товары состояли главным образом из тканей, оружия, вина и проч. Из Италии везли также бумагу, впервые вошедшую в употребление в Москве. В торговом обиходе русских людей XIV-XVII вв. встречаем некоторое количество слов, заимствованных из греческого: аксамит (золотая или серебряная ткань, плотная и ворсистая, как бархат), байберек (ткань из крученого шелка), панцирь и проч. Сурожский ряд на московском рынке и в более позднее время по традиции именовался Сурожским шелковым. В казне великого князя хранились вещи, сделанные в Константинополе и отмечаемые в духовных как «царегородские».
Московские князья быстро учли выгоды поддержания добрых отношений с итальянскими купцами. Дмитрий Донской уже жаловал некоего Андрея Фрязина областью Печорой, «…как было за его дядею за Матфеем за Фрязином». Пожалование подтверждало первоначальные грамоты, восходившие к временам предшественников Дмитрия Донского, начиная с Ивана Калиты. Что искал Андрей Фрязин на Далеком Севере? Вероятно, целью его пребывания в Печоре была покупка диких соколов, необычайно дорого ценившихся при владетельных дворах Европы. Дикие птицы («поткы») входили в состав дани, платимой в Орду еще в конце XIII в. Соколиная охота была любимым занятием, например, императора Фридриха II, короля Сицилии, оставившего по себе книгу о соколиной охоте. Потешающимся соколиной охотой изображен и последний потомок Гогенштауфенов, юный Конрадин. Следовательно, спрос на печорских соколов в Италии обеспечивался постоянно и поддерживался высшими кругами общества.
ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ
Вторым важнейшим направлением московской торговли было восточное. Волга связана с Москвой прямым водным путем, но все-таки Москва находилась в менее выгодном положении, чем Тверь, которая вела непосредственно торговлю с отдаленными странами Востока. Тем не менее Волга и для Москвы имела немалое торговое значение. Из Москвы до Волги добирались двумя водными путями: первый вел по Москве-реке и Оке, второй по Клязьме. В Казанский поход 1470 г. москвичи «…поидоша Москвою-рекою к Новугороду к Нижнему, а инии Клязьмою». К первым по дороге присоединились владимирцы и суздальцы, ко вторым – муромцы. Дмитровцы же, угличане, ярославцы – одним словом, «вси поволжане», шли Волгой. Местом встречи русских отрядов был Нижний Новгород.
Русские прочно утвердились на Средней Волге еще в XIV в. Этим объясняется поход московской рати на Великие Болгары 1376 г., окончившийся тем, что болгарские князья признали свою зависимость от Москвы и посадили в городе московского наместника и таможенника.
«Волжский путь», как он характерно назван в одном летописном известии, проходил по населенным местностям, гораздо более населенным в XIV-XV вв., во времена Золотой Орды, чем позже, в середине XVI в., когда от Казани до Астрахани лежали пустынные места, которые русские начали заново колонизировать. Главными торговыми центрами на пути от Нижнего Новгорода были Великие Болгары, Сарай и Астрахань. В Нижний Новгород сходилось немалое количество армянских и «бесерменских» купцов, под последними понимались вообще купцы из мусульманских стран. Кербаты, лодки, учаны, паузки, струги и другие речные суда стояли в летнее время под городом. От Нижнего Новгорода поднимались вверх по Волге к Твери или по Клязьме к Владимиру. Волжский путь посещался самыми различными купцами – русскими и восточными.
Московские купцы принимали немалое участие в волжской торговле. Вместе с Афанасием Никитиным из Астрахани в Дербент ехали тезики (бухарские купцы, таджики) и 10 «русаков», а в другом судне 6 москвичей и 6 тверичей. Торговля Москвы с волжскими городами особенно усилилась после возникновения Казанского ханства, вступившего в тесные торговые связи с Москвой.
В конце июня на праздник Рождества Ивана Предтечи в Казани собиралась ярмарка, на которую съезжались русские и восточные купцы. В их числе находим и москвичей. Об этом нам говорят две митрополичьи грамоты к казанским ханам с просьбой об оказании помощи митрополичьим слугам, едущим в Казань.
Восточная торговля оказала большое влияние на русский торговый лексикон, введя не только некоторые обозначения денежных единиц (деньга, алтын), но и своеобразные понятия торговых сделок и угощений (могарыч – угощенье, маклак – посредник и т. д.).
ТОРГОВЛЯ МОСКВЫ С ВОСТОКОМ
Волжский путь связывал Москву с отдаленными странами Востока, которые вовсе не были столь недоступными для русских купцов, как это порой представляется в некоторых наших исторических работах. Вот, например, любопытный список стран, завоеванных Тимуром: Чагодей (Чагатаи в Средней Азии), Хорусане (Хоросан), Гулустане (Гюлистан), Китай, Синяя Орда, Ширазы (Шираз), Испаган, Орнач, Гилян, Всифлизи (Тбилиси), Тевризи (Тавриз), Гурзустани, Обезы (Абхазия), Гурзи (Гурия), Бактата (Багдад), Железная Врата (Дербент), Сирия, Вавилонское царство, Севастия, Армения, Дамаск. Русский автор хорошо передал названия отдаленных стран в их употребительной русской форме, так, как некоторые названия приведенного списка встречались в разных местах нашей летописи. Отдельные названия, испорченные переписчиками, легко восстанавливаются с помощью других текстов. Так, малопонятное «Всифлизи» исправляется списками Софийской второй летописи, где стоит «Тефлизи».
Восточные купцы, в свою очередь, посещали Москву и пользовались в ней значительным влиянием. Во время междоусобий середины XV в. упоминаются Резеп-хозя и Абип, которым задолжал князь Юрий Галицкий, затративший большие деньги на подкуп золотоордын-ских вельмож. С восточными купцами заключались сделки, и на их имя составлялись письменные документы – «кабалы».
По Волге шли на Восток меха, кожи, мед, воск; с Востока привозились ткани и различные предметы обихода. Значение восточной торговли для русских земель XIV-XV вв. чрезвычайно велико и нашло свое отражение в русском словаре, где восточные названия тканей и одежды утвердились очень прочно. Так, уже в духовной Калиты названо «блюдо ездниньское» – из Иезда в Персии, «пояс золот царевьский», т. е. золотоордынский, 2 кожуха «с аламы с жемчугом» (т. е. богатые воротники с украшениями, от арабско-татарского слова «алам» – значок). Торговля Москвы с Востоком только начинала развиваться в XIV-XV столетиях, но и тогда уже достигла значительного объема. Поэтому даже в церковных книгах мы порой находим неожиданные записи восточных слов, почему-либо заинтересовавших переписчика или владельца рукописи. «Бирь, еки, уючь, торчь, беш, алты»,- читаем, например, на страницах одной книги XV в. названия восточных цифр.
ДМИТРОВ И ПУТИ НА СЕВЕР
Немалое значение имели для Москвы и ее связи с отдаленным Севером, которые поддерживались при посредстве Дмитрова, ближайшего северного пригорода Москвы. Рост этого города стал особенно сказываться в XV столетии, когда Дмитров делается стольным городом удельного княжества. Как быстро росло значение Дмитрова, можно проследить по тем князьям, каким он доставался в удел. Дмитрий Донской отдал Дмитров четвертому своему сыну Петру. Василий Темный передал его во владение второму сыну Юрию. Позже Дмитров попал также второму сыну Ивана III – Юрию Ивановичу. Таким образом, Дмитров в конце XV- начале XVI в. доставался вторым сыновьям великого князя и, следовательно, считался самым завидным уделом, поскольку великие князья наделяли детей городами и землями по старшинству. Самым старшим и доставались лучшие уделы.
Экономическое значение Дмитрова зиждилось на том, что от него начинался прямой водный путь к верхнему течению Волги (Яхрома, на которой стоит Дмитров, впадает в Сестру, Сестра в Дубну, приток Волги). Устье Дубны было местом, где речной путь разветвлялся на север и запад. Здесь товары нередко перегружались из мелких судов в большие. Удобное положение Дмитрова особо отмечалось Герберштейном точно назвавшим все реки, которые связывали город с Волгой. «Благодаря такому великому удобству рек, тамошние купцы имеют великие богатства, так как они без особого труда ввозят из Каспийского моря по Волге товары по различным направлениям и даже в самую Москву», – пишет далее Герберштейн. Дмитров вел крупную торговлю с Севером, откуда везли соль, которую закупали не только дмитровские купцы, но и монастыри, порой в больших размерах. Таким образом, при посредстве Дмитрова поддерживались торговые отношения Москвы с Далеким Севером. Московские промышленники ходили на Печору ватагами уже при Иване Калите. Владея Дмитровом и устьем Дубны, московские князья держали под своим контролем верхнее течение Волги. Поэтому Углич, Ярославль и Кострома рано оказались в сфере влияния московских князей.
Речной путь от Дмитрова на север до Белоозера засвидетельствован рядом известий. Во время нашествия Ахмата этим путем бежала великая княгиня Софья Фоминишна. Покинув Москву, она «…поиде к Дмитрову и оттоле в судах к Белуозеру». Той же дорогой позднее ездил в Кирилло-Белозерский монастырь Иван Грозный. Удобные речные пути являлись предпосылками для раннего проникновения владычества московских князей на Дальний Север. Еще в конце XIV в. появился «владычный городок» на Усть-Выми (при впадении Выми в Вычегду), сделавшийся резиденцией пермских епископов и оплотом московских князей на Севере.
Северный путь имел большое значение для Москвы, так как по нему в основном поступали меха и охотничьи птицы. Север доставлял в московские пределы и соль – один из важнейших товаров средневекового времени.
ТОРГОВЛЯ С НОВГОРОДОМ
С легкой руки И. Е. Забелина сложилось представление о большом значении для Москвы новгородской торговли. По его словам, к Москве сходились торговые дороги «…от Новгорода, через древнейший его Волок Ламский, с Волги по рекам Шоше и Ламе на вершину реки Рузы, впадающей в Москву-реку… здешний путь был короче, чем по руслу Волги, не говоря о том, что Москвою-рекою новгородцы должны были ходить и к ря-зянской Оке, и на Дон».
Эта мысль И. Е. Забелина иной раз повторяется в статьях и докладах, хотя никаких свидетельств о раннем развитии московской торговли с Новгородом мы не имеем. Да это и понятно. Ведь Новгород торговал с ганзейскими городами в основном товарами, привозимыми из его волостей, а также с Двины и Верхнего Поволжья, а Москва торговала теми же товарами с итальянскими республиками. Новгород и Москва направляли свои торговые усилия в разные стороны. Новгородская торговля в XIV в. ориентировалась на север, а московская – на юг, в Геную и Венецию.
Связи Москвы с Новгородом стали быстро усиливаться в XV в., особенно во второй его половине, когда турки овладели Константинополем и итальянскими колониями в Крыму. Тогда Новгород и делается отдушиной для московской торговли; тогда между Москвой и Новгородом устанавливаются более прочные экономические связи, что в немалой степени способствует быстрому подчинению Новгорода московским князьям.
По Ламе и Шоше можно было добраться от Волока Ламского к Волге, но этот путь в конечном итоге выводил к Твери. К тому же река Лама под городом Волоколамском настолько ничтожна по глубине и ширине, что никак не верится в ее торговое значение. Из Москвы к Твери легче было добраться или сухим путем, или по Волге от Дмитрова. Участок же водного пути от Дмитрова до Твери засвидетельствован нашими источниками. Этой дорогой, например, великая княгиня Софья Витовтовна спасалась в Тверь, Шемяка догнал ее на устье Дубны. Другой путь на запад шел через Смоленск, куда вела сухопутная дорога, так как водный путь Москвы к Можайску вверх по Москве-реке имел небольшое значение: верховье Москвы-реки слишком удалено от сколько-нибудь судоходных рек верхнеднепровского бассейна. Поэтому наши источники и молчат о судоходстве от Москвы до Можайска или даже до Звенигорода. Верхнее течение Москвы-реки имело только второстепенное значение, тогда как связи с Западом поддерживались главным образом сухопутными дорогами, значение которых непрерывно увеличивается и становится особенно заметным с XV в., когда замечается подъем западных подмосковных городов: Рузы, Звенигорода, Вереи, Боровска. Это – признак оживления и экономического роста западной окраины Московской земли, а также усиления ее связей с Западом.
Путь из Москвы в Новгород обычно шел через Тверь. Эта дорога была наиболее безопасной и оживленной, вследствие чего такой крупный монастырь, как Троице-Сергиев, рано озаботился приобретением на Новгородско-Тверской дороге большого села Медна «промеж Торжьком и Тверью». Однако известен был и другой, несколько более кружной путь из Москвы в Новгород. Как и предполагал И. Е. Забелин, он проходил через Волоколамск на Микулин и далее прямо на Торжок, в обход тверских владений. Такой длинный путь имел свои удобства, так как позволял объезжать тверские таможенные заставы, и по нему нередко ездили из Новгорода в Москву и обратно. Дорога на Волок была одинаково удобна и для новгородцев, и для москвичей. Поэтому Великий Новгород и Москва упорно держали Волок Ламский у себя в совладении, чтобы иметь прямой доступ из Московской земли в Новгородскую.
Московские товары состояли из мехов и сельскохозяйственных продуктов. Какое-то значение должны были иметь привозные итальянские, греческие и восточные предметы. Из Новгорода, вероятно, поступали оружие и ткани, в первую очередь сукна, привозимые из ганзейских городов. «Поставы ипские», т. е. штуки знаменитого фландрского сукна, известного на Руси под именем «ипского» (от города Ипра), неизменно упоминаются в числе подарков, поднесенных великому князю новгородцами.
ТОРГОВЛЯ С ЗАПАДОМ
Важнейшие пути из Москвы на Запад проходили через Волок Ламский и Смоленск. Сухопутная дорога от Волока на Ржев и Зубцов имела, по-видимому, большее значение, чем воображаемый водный путь по небольшим речкам, протокам Днепра и Москвы-реки. Около 1370 г. этим путем «…от Рускыя земли западныя, от Москвы и от Твери до Смоленска», ходил архимандрит Агрефений, насчитав 490 верст до Смоленска. Неясно только, откуда считать 490 верст до Смоленска – от Москвы или от Твери, или дело надо понимать таким образом, что Агрефений ходил в Смоленск из Москвы через Тверь, что также вполне допустимо. Прямой путь из Смоленска в Москву в основном должен был совпадать с позднейшей Смоленской дорогой, так как Вязьма считалась промежуточным пунктом. Весь путь от Смоленска до Москвы в начале XV столетия одолевался примерно в 7 дней. Так, митрополит Фотий выехал из Смоленска на Пасху, а приехал в Москву на той же неделе.
Московская торговля с Западом поддерживалась в основном при посредстве Смоленска. Особенно прочные связи с Литовским великим княжеством устанавливаются с конца XIV в. Летопись отмечает, что в 1387 г. «…прииде князь Василей на Москву, а с ним князи лятьския паны, и ляхи, и литва». Речь идет о Василии Дмитриевиче, бежавшем из Орды в Подольскую землю, а оттуда прибывшем в Москву. Конечно, торговля Литовского великого княжества с Москвой велась и ранее, но она особенно усиливается в XV столетии. В Китай-городе с давнего времени находилась церковь с характерным названием Воскресения в Панех, или в Старых панех. Существование православной церкви с подобным названием заставляет предполагать, что «паны» были православного исповедания. Некоторые московские купцы являлись контрагентами литовских заказчиков, в их числе находим Василия Ермолина, от которого сохранилось любопытное послание, написанное им пану Якову, вероятно, литовскому «писарю» Якубу, приходившему в Москву послом от литовского великого князя в 1468 г. Ермолин писал своему заказчику, что в Москве можно найти рукописи и сделать с них хорошие копии, но требовал прислать ему денег и бумаги. «Пришли немало,- пишет далее Ермолин,- а лишка не дам ничего, а наряжу ти, пане, все по твоей мысли». В рассказе о митрополите Фотии назван литовский купец, оклеветавший митрополита («…некто гость с торгом прииде из Литвы»).
Каждый год в Москву съезжалось «…множество купцов из Германии и Польши для покупки различных мехов, как-то: соболей, волков, горностаев, белок и отчасти рысей». В этом известии итальянского путешественника Москва выступает основным центром торговли мехами наряду с Новгородом. Главным товаром, ввозимым с Запада, было сукно. Поэтому и суконный ряд в московских торговых рядах в XVIII в. носил название Суконного Смоленского ряда.
МОСКВА – ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ДОРОГ
Водные пути имели определяющее значение для московской торговли, так как и в зимнее время речные русла были удобны для проезда, когда сугробы снега засыпали лесные дороги и там было легко сбиться с направления. Однако по мере роста населения увеличивалось значение сухопутных дорог, на которые в наших исторических трудах обычно обращается мало внимания. Центральное положение Москвы очень быстро превратило ее в подлинный узел сухопутных дорог важного значения. Без них некоторые удобства географического положения Москвы не играли бы столь большой роли, как мы это видим в XIV-XV вв. Так, Москва сообщалась со своей северной гаванью (Дмитровом) только сухопутным путем и на относительно большом расстоянии – в 70 км.
Хорошее представление о дорогах, сходившихся к Москве, дает «Книга Большого чертежа», дошедшая в редакции XVII в., но восходящая, по крайней мере, к предыдущему столетию. Пополняя сведения книги скудными летописными заметками XIV-XV вв., мы можем до некоторой степени судить о древних московских дорогах.
Важнейшей дорогой из Москвы на юг была дорога на Коломну, выводившая далее к Рязани. На Коломну можно было ехать тремя дорогами: Болвановской, Брашевской и Котловской. Болвановская дорога начиналась от восточной оконечности города, где до нашего времени существовала церковь Николы на Болвановке, в районе Таганской площади. Дальнейшее направление дороги неясно. Она, по-видимому, вела на Коломну по левому берегу Москвы-реки. Что касается Брашевской дороги, то и она должна была вначале идти по левому берегу Москвы-реки, иначе через нее не надо было бы переправляться на другой берег «…на красном перевозе в Боровеце». Красный боровский перевоз заслужил свое прозвище благодаря на редкость красивому расположению. Его надо искать там, где при впадении Пахры в Москву-реку возвышаются так называемые Боровские холмы. Видимо, Брашевская дорога шла на Угрешу, а оттуда вдоль реки до воровского перевоза и далее по правому берегу Москвы до Коломны. Третья дорога на Коломну вела через деревню Котлы, которая и до сих пор стоит на южной окраине Москвы. Эта последняя дорога служила наиболее обычным путем из Москвы в Коломну, самым безопасным от всяких случайностей. По ней в 1390 г. прибыл в Москву митрополит Киприан, возвращавшийся из Царьграда.
Через Коломну и Рязань проходила сухопутная Ордынская дорога, давшая в Москве название одной из улиц в Замоскворечье. Из Астрахани до Москвы добирались 1,5 месяца, причем дорога сначала шла вдоль Волги, а потом через степь.
Очень рано в наших источниках появляется Владимирская дорога. В сказании о перенесении Владимирской иконы в Москву в 1395 г. она названа «великой» дорогой. Замечательнее всего, что она подходила к Москве у Сретенских ворот, в районе Кучкова поля, следовательно, не с востока, как можно было бы ожидать, а с севера («…на Кучкове поле близ града Москвы, на самой велицей дорозе Володимерьской»). Вероятно, это показывает первоначальное направление Владимирской дороги, которая поворачивала от Клязьмы к Москве по кратчайшему расстоянию.
Направление старых сухопутных дорог обозначено названиями некоторых московских улиц: Стромынка, Тверская, Дмитровка. Из них требует объяснения только Стромынка, которая выводила на Киржач и далее на Юрьев-Польский. Она получила название от села Стромынь по дороге на Киржач, о котором известно с 1379 г. К перечисленным дорогам прибавляется группа западных сухопутных дорог: Волоцкая, Можайская и Боровская. Все они в достаточной мере описаны в «Книге Большого чертежа», когда их направление окончательно установилось. В XIV-XV вв. о сухопутных дорогах упоминается случайно, но и то, что нам известно, четко рисует Москву как большой торговый город, куда ведет немалое количество водных и сухих путей.
МОСКВА – ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
Краткий очерк тех путей, которые вели к Москве, показывает нам, что Москва XIV-XV вв. принадлежала к числу крупнейших торговых центров Восточной Европы. Благодаря центральному положению она выделялась среди других русских городов, имела несомненные преимущества и перед Тверью, и перед Рязанью, и перед Нижним Новгородом, и перед Смоленском. По отношению ко всем ним Москва занимала центральное место и одинаково была связана как с верхним течением Волги, так и с Окой, имея своими выдвинутыми вперед аванпостами Дмитров и Коломну. Можно сказать без ошибки и без преувеличения, что ни в каком другом средневековом русском городе мы не найдем такого пестрого смешения народов, как в Москве, потому что в ней сталкивались самые разнородные элементы: немецкие и литовские гости с Запада, татарские, среднеазиатские и армянские купцы с Востока, итальянцы и греки с юга. В главе об иностранцах мы увидим, как этот пестрый элемент уживался в нашем городе, придавая ему своеобразный международный характер в те столетия, когда Москва изображается порой только небольшим городом, о котором толком ничего не говорится даже в специальных исторических трудах.
Для иностранца, прибывшего в Москву с Запада, русские земли представлялись последней культурной страной, за которой расстилались неизмеримые пространства татарской степи. «12 сентября 1476 года вступили мы наконец, с благословением божиим, в землю Русскую,- пишет итальянский путешественник о поездке из Астрахани в Москву. – 26-го числа (сентября того же года. – М. Т. ) прибыл я наконец в город Москву, славя и благодаря всемогущего бога, избавившего меня от стольких бед и напастей», – вырывается у него вздох облегчения. В пределах Русской земли итальянец-путешественник считает себя в безопасности. «Светлейшая Венецианская республика» поддерживает сношения с Москвой; если русские обычаи кажутся итальянцу грубыми, а русская вера – еретичеством, то не забудем о типичном заблуждении многих путешественников, склонных считать другие народы грубыми, невежественными и отсталыми. В Москве итальянцы и немцы сталкивались с татарами, сведения о которых у Матфея Меховского и Герберштейна явно получены через русские руки. Здесь они узнавали о далеких северных странах, богатых драгоценными мехами. Через Москву легче всего было добраться в Среднюю Азию, как это сделал Дженкинсон во второй половине XVI в.
Европейские и азиатские костюмы причудливо перемешивались на ее улицах. Вот почему Москву XIV-XV вв. по праву надо считать важнейшим международным пунктом средневековой Восточной Европы. Этот международный характер Москвы подчеркивается и ранним появлением в ней видных купеческих фамилий, связанных с крупной зарубежной торговлей.
МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ
Накопление капиталов в руках московских купцов было тесно связано с черноморской торговлей. Поэтому ведущая купеческая группа и получила в Москве прозвание гостей-сурожан. О них говорили, что они «…сходници суть з земли на землю и знаеми всеми, и в Ордах, и в Фрязех». По счастливой случайности нам известны имена 10 гостей-сурожан, ходивших с Дмитрием Донским на Куликово поле. Никоновская летопись, которая частично сохранила одну из ранних редакций сказания о Мамаевом побоище, называет их так: 1) Василий Капица, 2) Сидор Елферьев, 3) Константин, 4) Кузьма Коверя, 5) Семион Онтонов, 6) Михайло Саларев, 7) Тимофей Весяков, 8) Дмитрий Черной, 9) Дементий Саларев, 10) Иван Ших.
В этом списке не все передано точно. Из другой редакции сказания узнаем, что безымянного Константина прозывали Волком, а Михаила Саларева звали не Саларевым, а Сараевым. В третьей редакции сказания Константин назван Петуновым, а в четвертой находим новые изменения: Василий, оказывается, носит имя не Капица, а Палица, Константин имеет прозвище Белца, Тимофей назван не Весяковым, а Васковым. Как далее мы увидим, все эти изменения не вносят чего-либо нового и оставляют в неприкосновенности список Никоновской летописи как наиболее древний и достоверный. С течением времени имена гостей-сурожан, современников Дмитрия Донского, забывались и подправлялись таким образом, что на месте малопонятного Капицы появилось более знакомое прозвище Палица.
В. Е. Сыроечковский в своей монографии о гостях-сурожанах проследил историю Саларевых, но в XIV-XV вв. еще большей известностью пользовались Онтоновы, Ермолины и Весяковы. Названный в сказании о Мамаевом побоище Симеон Онтонов считался одним из крупнейших и богатейших купцов. Его наши источники называют человеком «…от великих купець и славных гос-подьствующему граду Москве». Имя и отчество Семена Онтонова, кажется, ручаются за его русское происхождение.
Менее известно о Тимофее Весякове, но «Весяков двор» стоял в Китай-городе поблизости от Богоявленского монастыря во второй половине XV в. Вероятно, он чем-нибудь выдавался среди других окружающих его строений. О другой такой постройке, воздвигнутой купцом Тароканом у Фроловских ворот в Кремле, упоминает летописец в 1471 г.: «Того же лета Тарокан купець заложи себе полаты кирпичны во граде Москве, у градной стены, у Фроловских ворот; единаго лета и сведе». Это была едва ли не первая каменная постройка в Москве жилого типа, отмеченная по своей необычности в летописи. Палата имела сводчатый верх («сведена»), как это мы обычно наблюдаем в старинных русских постройках.
Потомка еще одного гостя-сурожанина, ходившего против татар с Дмитрием Донским, Ивана Шиха, мы найдем» во второй половине XV в. Это Андрей Шихов, один из кредиторов князя Юрия Васильевича. Князь получил от него 30 рублей, отдав в залог постав ипрского сукна.
Мы видим, что денежные капиталы держались в отдельных купеческих родах иной раз почти на протяжении целого столетия. В этом несомненный признак прочности торговых связей и денежных богатств, накопленных московским купечеством. Среди него выделяются фамилии, которые приобретают земельное имущество и вступают в ряды родовой знати. Такой путь возвышения купеческих родов можно проследить на примере Ермолиных и Ховриных, двух знаменитейших московских купеческих фамилий XV в.
ЕРМОЛИНЫ
Наиболее замечательными представителями Ермолиных были Дмитрий Ермолин и его сын Василий, прославившийся своими архитектурными работами. О начале рода Ермолиных можно судить по тем прозвищам, которые носил Дмитрий. Его называли по деду Васкиным («…от московских великих купцов, нарицаем Ермолин Васкина»). Известно было, что отец Дмитрия, Ермола, постригся в Троицком монастыре, «…преобидев толикое богатство и таковый лик сынов, паче же благородием сущим и богатем», при игумене Никоне, т. е. до 1426 г. Пострижение в монастырь обычно обозначало конец мирской карьеры и совершалось на склоне лет. Следовательно, деятельность Ермолы надо относить к началу XV в., а вернее, к еще более раннему времени – концу XIV столетия. В том же Троицком монастыре был пострижен и Герман, брат Ермолы.
Отцом Ермолы, как мы видели, был некий Васка или Васька, т. е. Василий, родовое имя, сохранившееся у Ермолиных и позже. Ермолин не упоминается в списке гостей-сурожан, взятых Дмитрием Донским в поход против Мамая, но в нем показан на первом месте Василий Капица (или Капца), которого предположительно можно считать родоначальником Ермолиных.
Таким образом, перед нами вырисовывается родословная одного из купеческих родов XIV-XV вв. Он начинается гостем-сурожанином Василием Капицей и продолжается Ермолой и Германом, которых еще зовут по отцу Васькиными.
Дмитрий Ермолин, наследовавший в третьем поколении богатства Василия Капицы, принадлежал к числу знатнейших москвичей середины XV в. О нем рассказывается в сказании о чудесах Сергия Радонежского, причем характерна сама причина, по которой был записан случай с Дмитрием Ермолиным, в иноках Дионисием. Дмитрий ссорился с игуменом Троицкого монастыря Мартиньяном по поводу монастырской пищи. Смысл его речей был таков: «Что я могу сделать, если не в состоянии есть вашего хлеба и варева! Знаешь сам, что я вырос в своих домах, питаясь не такими кушаньями» («Что имам сотворити, яко хлеба вашего и варения не могу ясти? А ведаешь сам, яко возрастохом во своих домех, не таковыми снедми питающеся».
Род Ермолиных был довольно многочисленным. У Дмитрия были братья Петр и Афанасий, сын Василий, были и другие сродники. Еще одна любопытная черта характеризует Дмитрия Ермолина как образованного человека. Он умел «…глаголати русски, гречески, половецки»; под последним надо понимать татарский язык. Знакомство с греческим языком объясняется торговыми интересами Дмитрия Ермолина-Васкина. Он такой же гость-сурожанин, как и его предполагаемый дед Василий Капица. Перед нами бывалый человек, торговавший, судя по знанию греческого и татарского языков, с Азовом, Сурожем, Кафой и Константинополем.
К четвертому колену Ермолиных принадлежал Василий Дмитриевич, бывший видным подрядчиком и архитектором своего времени. Во второй половине XV в. Василий Дмитриевич Ермолин подновлял камнем кремлевскую стену, поставил на Фроловских воротах резные из камня фигуры Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, подновлял собор Вознесения в Кремле, поставил в Троице-Сергиевом монастыре каменную трапезную, собрал развалившийся собор в Юрьеве-Польском, знаменитый резными украшениями по камню, обновил каменную церковь и Золотые ворота во Владимире – одним словом, принимал непосредственное и деятельное участие в каменном строительстве начала княжения Ивана III. Василий Ермолин исполнял эти работы как подрядчик и архитектор, конкурируя с другим московским родом – Головиных.
Для рода Ермолиных характерно стремление обзавестись недвижимым имуществом. В XV в. им принадлежало село Спасское-Семеновское (теперь Спас-Каменка), а также Старое Ермолинское (ныне Ермолино). Спасское-Семеновское было куплено Василием Дмитриевичем Ермолиным у Рагозы Терентьева в XV в. Оно находилось поблизости от села Старое Ермолинское, на южной окраине Дмитровского уезда. Свое название Ермолино получило от известного нам Ермолы, деда Василия Дмитриевича. Это указывает на то, как рано гости-сурожане стали переходить в ряды земельной знати и родниться с боярами. Так, уже дочь Василия Дмитриевича Ермолина вышла замуж за Дмитрия Васильевича Бобра, который получил на купленное им у тестя село Спасское несудимую грамоту в 1463 г. Вотчинами владел и Петр Ермолин, дядя Василия Дмитриевича. Ему принадлежало село Куноки в Дмитровском уезде.
Василий Дмитриевич был крупнейшим и, кажется, наиболее выдающимся из Ермолиных, любителем и знатоком архитектуры, скульптуры и книжного дела. Таким он выступает перед нами в послании «От друга к другу», которое упоминалось нами выше в связи с торговлей Москвы с Западом.
ХОВРИНЫ
Еще показательнее история купеческого рода Ховриных. Сами Ховрины вели свое происхождение от некоего князя Стефана, который пришел к Дмитрию Донскому «…из своей вотчины, с Судака да из Манкупа да из Кафы». У князя Стефана был сын Григорий Ховра, а у Григорья – сын Володимер. Это родословие было составлено одним из Ховриных и внесено в «Государев Родословец» в середине XVI в., значит, спустя более полутора столетий после выхода на Русь предполагаемого родоначальника Ховриных. Почему Ховрины потеряли свое княжеское имя и что это была за вотчина у князя Стефана в Судаке, Манкупе и Кафе, в родословной не объяснено. Поэтому уже И. Е. Забелин предполагал, что родоначальник Ховриных «…хотя и назван князем, но явился в Москву не боярином или князем-воином с дружиною, как приходили другие иноземцы, а человеком гражданским, торговым». С этим замечанием можно вполне согласиться, впрочем, с добавлением, что князь Стефан никогда и не был родоначальником Ховриных, род которых, по нашему мнению, начался от Кузьмы Коверя (Ковыря, Ковра, Ковера), названного выше в числе гостей-сурожан, современников Дмитрия Донского.
Владимир Григорьевич Ховрин, внук предполагаемого Стефана, оказывается гостем и казначеем великого князя. Ховрины быстро выдвинулись в первые ряды московских богачей. Владимир Григорьевич в 1450 г. построил на своем дворе каменную церковь Воздвиженья Креста Господня. Это была уже вторая церковь Ховриных, поставленная на месте первой, развалившейся во время большого московского пожара. Судя по позднейшим описаниям, каменная ховринская церковь имела небольшие размеры. «Она была построена на подклетном нижнем ярусе, где, по всему вероятию, помещались кладовые палаты. Так обыкновенно строились храмы именно для сохранения имущества от пожаров». При церкви помещалась палатка длиной 3 аршина, а шириной 4,5 аршина (2,2 х 8,3 м), видимо служившая для хранения казны Ховриных.
Позже Ховрины построили для себя каменные палаты в два этажа. Вверху находились 4, а внизу 5 комнат («переделов»). При палатах устроено было два каменных погреба.
На примере Ховриных можно наблюдать тот переходный период, когда прежний купец делается родовитым человеком и превращается в боярина. В 1450 г. Владимир Григорьевич Ховрин назван необычным титулом: «…гость да и болярин великого князя». Слова «да и болярин» как будто указывают, что перемена в положении Ховрина произошла недавно. Пожалование боярством могло и в самом деле стоять в связи с денежной помощью, которую Ховрины оказали Василию Темному в тяжкие годы его ослепления, заключения в Угличе, удачного бегства в Кириллов монастырь и победоносной борьбы с Шемякой.
В XVI в. род Ховриных, принявший второе имя Головиных, окончательно вступает в ряды московского боярства, постепенно разрывая связь с торговлей и делаясь типичной дворянской фамилией.
КУПЕЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В МОСКВЕ
Верхушка московского купечества объединялась в две группы: гостей-сурожан и суконников. Деление торговых людей на Гостинную и Суконную сотни сохранялось и в XVII в., но тогда названия гостей и суконников оставались лишь по традиции. Иное было в XIV- XV вв., когда гости и суконники составляли не только особые корпорации, но и объединялись спецификой их торговой деятельности. Гости-сурожане торговали с югом, суконники – с Западом; главным товаром первых были шелковые ткани, вторые в основном торговали сукном. В общественном положении сурожане стояли выше суконников и других торговых людей. В летописных известиях обычно впереди упоминаются сурожане, затем суконники и купчий люди.
Общественное значение купеческой верхушки в первую очередь держалось на их богатстве. С понятием о сурожанах, суконниках и прочих купцах соединялось представление как о людях, «…их же суть храми наполнени богатства, всякого товара». В поддержке купеческой верхушки нередко нуждались сами великие князья, особенно во время междоусобных смут или размирья с Ордой. Это испытал на себе Василий Темный, против которого злоумышляли вместе с Шемякой многие из москвичей – бояре и гости. Гости и суконники давали деньги и отцу Шемяки, князю Юрию Галицкому, помогая ему расплатиться с ордынскими долгами. Вообще роль купечества в ранней истории Москвы гораздо заметнее и виднее, чем это может представляться на первый взгляд.
Несмотря на всю скудость известий наших источников, они все-таки позволяют отметить еще одну важную особенность истории московских сурожан и суконников – существование среди них корпораций типа западноевропейских гильдий. Правда, на этот счет мы имеем и обратные мнения. Например, В. Е. Сыроечковский считает, что «…ни гости, ни суконники Москвы не развились в настоящую «гильдию», хотя бы сколько-нибудь подобную новгородскому Иванскому сту», хотя он и готов допустить для московских купцов «…некоторые начатки корпоративности», так как летопись говорит о церкви Ивана Златоуста, бывшей изначала строением московских гостей. Для высказываний В. Е. Сыроечковского вообще характерна чересчур большая осторожность в выводах, иногда сводящая на нет всю ценную работу, проделанную автором. Между тем летописный текст, заставивший исследователя задуматься над вопросом о существовании некоторых зачатков корпоративности у московских купцов, сам по себе очень красноречив. «Того же лета, – записал московский летописец под 1479 г., – июля месяца, заложил церковь Иоанна Златаустаго великий князь Иван (Васильевич.- М. Т. ) камену, а преже бывшую древяную разобрав; бе же та изначала церковь гостей московских строение, да уже и оскудевати начят монастырь той; князь же великий учини игумена тоя церкви выше всех соборных попов и игуменов града Москвы и заградскых попов еще за лето преже сего, егда обет свой положи, понеже бо имя его наречено бысть, егда бывает праздник принесение Иоана Златаустаго, генуариа 27, а в застенке тоя церкви повеле церковь другую учинити, того же месяца 22, Тимофея апостола, в тот день родися, а ту разбраную церковь древяную повеле поставити в своем монастыре у Покрова в садех, еже и бысть, первую малую разобрав». В более кратком сообщении другой летописи находим интересную деталь. Летопись называет церковь «бывшей гостиной древяной». Итак, церковь Иоанна Златоуста была строением московских гостей, что позволяет видеть в ней патрональную церковь верхушки московского купечества – гостей. Известно, что патрональные церкви имели значение не только религиозного, но и гражданского учреждения. При них обычно устраивались подвалы и амбары для хранения товаров, помещалась общая купеческая казна, устраивались в определенные дни общинные праздники. Название церкви Иоанна Златоуста – «…бывшей гостиной древяной»,- может быть, указывает на существование другого храма, принадлежавшего гостям, уже не деревянного, а каменного. Запустение монастыря, бывшего изначала церковью московских гостей-сурожан, обратило на себя внимание Ивана III, что было не случайным явлением, а могло быть тесно связано с оживлением сношений с Италией в конце XV в.
Некоторые указания на такие же церкви, связанные с гостями, видим в названии другой московской церкви. Собор Николы Гостунского был поставлен в 1506 г., на том месте, «…иде же стояла церковь деревяная старая Никола Лняной зовомый». По-видимому, название «льняной» церковь получила от объединения купцов, торговавших льном, а из западноевропейских источников мы знаем, что Николай Чудотворец считался покровителем торговцев льном.
Какие же права могли иметь объединения гостей и суконников? В XVII в. во главе последних стоял «суконничий староста». Суконники платили золотые и пищальные деньги, поворотное, мостили уличные мосты и сторожили уличные решетки, от чего, впрочем, не освобождались и монастырские подворья. Обязанности суконников, обозначенные нами, окончательно оформились в XVII в., но корпорация их сложилась гораздо раньше. Еще в 1621 г. суконники просили о выдаче им жалованной грамоты, потому что такая грамота «…сгорела у них в московское разоренье».
Что обязанности и привилегии гостей и суконников относятся к временам очень давним, можно увидеть из того, что об их службе говорится уже в междукняжеских договорах конца XIV в. В договоре 1388 г. статья устанавливает обязанности князей-совладельцев Москвы по отношению к гостям, суконникам и городским людям: «…блюсти ны с одиного, а в службу их не приимати». Вопрос о том, что понимать под службой гостей, суконников и городских людей, вызвал полемику в исторической литературе. Одни исследователи полагали, что речь идет о военной службе (С. М. Соловьев и В. Е. Сыроечковский), тогда как другие (М. А. Дьяконов) видели в этом финансово-хозяйственную службу, подобную обязанностям, которые несли на себе московские гости и торговые люди в XVI- XVII вв. Оба мнения, однако, грешат неточным пониманием слова «служба», имевшего в XIV-XV вв. совершенно определенный смысл вассальной зависимости. Русское средневековье выработало даже особый термин «приказаться в службу» для обозначения принятия на себя вассальной зависимости. Как всякий свободный человек, горожанин мог «приказаться в службу» к одному из князей-совладельцев Москвы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В понятие же «службы» входили различные обязанности «слуги» – вассала, в том числе обязанность выступать с господином в поход против неприятелей. Поступая в «службу» к кому-либо из князей-совладельцев, городской человек нарушал права остальных, так как он переходил под власть дворского того или иного князя и тем самым нарушал корпоративные привилегии сурожан и суконников.
В чем же заключались эти корпоративные привилегии? О них можно судить по позднейшим грамотам московским гостям. В известной грамоте 1598 г., данной новгородскому торговому человеку Ивану Соскову по случаю пожалования его «гостиным имянем», находим освобождение его от стоялыциков, разрешение безъявочно и безвыимочно держать дома питье, установление подсудности только самому государю. Важнейшей из этих привилегий является подчинение гостя суду великого князя, а именно такое пожалование находим в грамоте Дмитрия Донского новоторжцу Микуле с детьми.
Непосредственная подсудность великому князю и освобождение от уплаты пошлин, вероятно, и составляли те привилегии, которыми пользовались гости и суконники с давнего времени. «Нельзя не заметить некоторого родства между новгородскими пошлыми купцами и московскими гостями и людьми гостинной и суконной сотни», – пишет В. И. Сергеевич, тотчас же указывая на отдаленность такого родства. Но это родство представляется отдаленным только потому, что он сравнивает два явления, хронологически разделенные пятью веками: «пошлых» новгородских купцов XII в. и московских гостей XVII в. Между ними лежит целая пропасть, но такая пропасть не существовала между московскими гостями-сурожанами и суконниками, с одной стороны, и их новгородскими собратьями – с другой в XIV- XV вв. Понять же большое влияние на политические события указанного времени гостей-сурожан и суконников, отвергая существование у них купеческих союзов, гораздо труднее, чем допустить, что московские купцы в период феодальной раздробленности во всем были похожи на новгородских. Да и как понять без этого постоянное указание на гостей и суконников как особые группы городского населения, а таких указаний в наших источниках немало. Порядки Московского государства XVII в. уничтожили старину, оставшуюся только в традиционных названиях гостей и суконников, но она ясно выступает в ранних летописных известиях и говорит о том времени, когда гости-сурожане и суконники составляли прочные купеческие корпорации.
ГЛАВА V. МОСКОВСКОЕ РЕМЕСЛО И МОСКОВСКИЕ РЕМЕСЛЕННИКИ
ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ
В таком большом городе, как Москва, ремесленники должны были составлять преобладающую часть населения. Действительно, «чернь», «черные люди» нередко упоминаются в московских летописях, особенно в связи с внешними бедствиями и нападениями татар. Они поспешно укрепляют городские стены, они мешают бегству из столицы высших слоев населения, они же сражаются с неприятелями на стенах Кремля, защищая Москву, свои дома и семьи. То же самое мы наблюдаем и в других русских городах. Во время татарского набега 1293 г. Тверь решила сопротивляться, «…и тверичи целоваша крест, бояре к черным людем, тако же и черныя люди к бояром, что стати с единаго, битися с татары». Здесь перед нами неожиданно выступают две равноправные стороны: бояре и черные люди. Подобное же деление находим в Москве: «…бояре и большие люди, и потом народ и черны люди». Бояре тут отождествляются с большими людьми, народ – с черными. Нередко, впрочем, и те и другие прозываются общим именем «гражан» (горожан) , обозначавшим совокупность городских жителей.
ОСОБЕННОСТИ МОСКОВСКОГО РЕМЕСЛА
Как и во всяком средневековом городе, московское ремесло было тесно связано с рынком. В духовной грамоте старца Андриана Ярлыка находим указание на ремесленные специальности гончара и киверника. Кивер – военный головной убор – упомянут в летописном известии начала XV в. Замечательнее всего то обстоятельство, что гончар и киверник нуждались в кредите и брали у Ярлыка деньги взаймы под кабалы. Перед нами явно выступают ремесленники, тесно связанные с рынком и необходимостью закупать для своего производства дорогие материалы, что вынуждало их обращаться к чужой помощи.
По своей ремесленной специализации средневековая Москва была близка ко многим большим городам Западной Европы. Две отрасли ремесла получили особое распространение в Москве с давнего времени – изготовление предметов роскоши и оружия.
Особое развитие приобрело ювелирное, или «серебряное», дело. В духовных московских князей имеются указания на золотые и серебряные вещи, часть которых сделана московскими мастерами. Выражения вроде «…а что есмь нынеча нарядил два кожуха с аламы с жемчугом» говорят о том, что названные кожуха были сделаны («наряжены») в Москве, а не привезены со стороны. Недаром же потомки Калиты хорошо помнили некоего ювелира Парамшу («…икона золотом кована Парамшина дела»), конечно, потому, что он был, по-видимому, известный в Москве мастер золотых и серебряных дел.
Образцом московского ювелирного ремесла является оклад Евангелия, наряженного боярином Федором Андреевичем Кошкой в 1392 г. Этот бесспорный памятник московских мастеров имеет на краях лицевой доски оклада надпись, что Евангелие оковано «…повеленьем раба божья Федора Андреевича».
Самостоятельной специальностью было производство дорогих поясов, которые так часто упоминаются в духовных грамотах московских князей. Пояса высоко ценились и различались по своему убранству. Один из таких поясов послужил поводом к крупному дворцовому скандалу, поведшему к разрыву между Василием Темным и его двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Московский боярин обнаружил, что Василий Косой надел золотой пояс на цепях, полученный в приданое Дмитрием Донским от его тестя, Константина Суздальского. На свадьбе Дмитрия пояс подменил тысяцкий Василий и отдал краденую вещь своему сыну Микуле. После этого пояс переходил из рук в руки, пока не достался Василию Косому. Среди великокняжеских поясов находим: «…пояс золот с ремнем Макарова дела», «…пояс золот Шышкина дела», другой «…пояс золот с каменьем же, што есм сам сковал». Все это – работа московских ремесленников, хорошо известных своими замечательными изделиями.
Москва была и одним из центров изготовления дорогих шитых пелен и воздухов с изображениями иконного характера. Большинство шитых плащаниц, сохранившихся до нашего времени, сделаны на средства князей, княгинь и бояр руками их зависимых людей. Однако высокое мастерство шитых изделий исключает представление о случайных исполнителях. Дорогое шитье было одним из тех занятий, за которым присматривали в своих мастерских княгини и боярыни, но подобные мастерские не могли удовлетворить потребности рынка в церковных плащаницах и воздухах. Поэтому надо предполагать существование ремесленных мастерских, работающих на сбыт.
Москва прославилась также своими книжными переписчиками. Известный нам уже Василий Ермолин с похвалой отзывается о московских книжниках, которых было немало в столице. Явление это не ново для XV в., стоит только вспомнить о рукописях, наваленных в московских церквах до свода и погибших в Тохтамышево разорение.
Иконное дело – один из ранних промыслов московских ремесленников. Большинство иконников принадлежали к числу монахов или духовенства приходских церквей. Писание икон считалось занятием богоугодным и поощрялось в монастырях. Поэтому даже среди московских митрополитов находим людей, прославившихся иконным мастерством (Симон, Варлаам, Макарий). Тем не менее и это ремесло не могло обходиться без помощи работников из черных сотен и слобод. В 1482 г. иконные мастера написали целую композицию «Деисус с праздники и пророки, вельми чюден» в московский Успенский собор. Из четырех мастеров двое принадлежали к духовенству (иконник Дионисий и поп Тимофей), о двух можно говорить как о ремесленниках, потому что летопись их называет просто Ярец и Конь. В 1488 г. церковь Сретения расписывал фресками мастер Долмат-иконник, а в 1508 г. «…мастер Феодосии Денисьев подписывал золотом» церковь Благовещения. Впоследствии в Москве найдем Иконную слободу в районе Арбата и Сивцева Вражка, а в торговых рядах – особый Иконный ряд. Громадная потребность в иконах, которые считались необходимой принадлежностью любой избы, не могла удовлетворяться только княжескими и монастырскими мастерскими. Крестьяне и черные люди в основном покупали иконы на рынках. Ювелирное производство, изделия церковного быта, книжное и переплетное дело – вот те отрасли ремесла, которыми выделялась Москва из числа других городов, будучи центром тонких ремесел, связанных с обслуживанием богатых феодалов и церкви.
То же самое направление московского ремесленного производства замечается и в другой отрасли – изготовлении оружия. В «Задонщине» находим, например, замечательное описание вооружения русских и татарских воинов, сражавшихся на Куликовом поле: «…а шеломы черкасские, а щиты московские, а сулицы немецкия, а копия фряжския, а кинжалы сурские». Здесь перечислен наличный инвентарь русского вооружения XIV-XV вв. Сирийские кинжалы, итальянские копья, немецкие сулицы (дротики), черкасские шлемы поставлены наряду с московскими щитами, которыми славились московские оружейники.
Наши скудные сведения о московском оружейном производстве XIV- XV вв. дополняются позднейшими данными. В описи оружия и доспехов Бориса Годунова (1589 г.) находим 4 лука «московское дело», «лук московский с тетивою», рогатину московскую, московское копье, московские панцири. Среди ратной утвари особое место занимают шлемы. Из 20 шлемов 6 названы «шоломами московскими». Кроме того, дополнительно отмечены 3 шлема «московских гладких».
Как видим, в XVI в. производство шлемов имело в Москве массовый характер. Они не только успешно конкурировали с привозными, но и считались весьма ценными доспехами в царской казне. Имя мастера-кольчужника читаем на могильной плите конца XVI в. у церкви Никиты Мученика в Заяузье, в районе Кузнецкой слободы. Не забудем также того, что термином «кузнец» нередко покрывалось понятие оружейника, делавшего свои изделия в основном из металла. Кроме того, в XVII в. в Москве находим Бронную слободу, расположенную за пределами Белого города, у Никитских ворот. Производство предметов роскоши и оружия наиболее типично для Москвы, но это, конечно, не значит, что в ней отсутствовали другие ремесла более общего характера. Портные, сапожники, гончары, кузнецы и т. д. составляли основное население московских кварталов уже в XIV-XV вв.
ПЕРЕДОВОЙ ХАРАКТЕР МОСКОВСКОГО РЕМЕСЛА
Центральное положение Москвы и ее ведущее значение в Северной Руси подчеркиваются еще одной особенностью московского ремесла – его передовым характером. То, что было непосильно отдельным удельным центрам, одолевалось Москвой.
Яркий свет на передовой характер московского ремесла в XV в. бросает известие, помещенное в Псковской летописи. В 1420 г. псковичи искали у себя мастеров, чтобы сделать новую свинцовую крышу на соборе Троицы. Однако в Пскове не оказалось мастера, умевшего лить свинцовые доски. Тогда псковичи обратились в соседние немецкие владения – в Юрьев (Дерпт), но немцы отказались дать нужного мастера. Желание псковичей было удовлетворено только митрополитом Фотием, который прислал мастера из Москвы, научившего псковичей лить свинцовые доски. Следовательно, Москва успешно состязалась в деле освоения редких производств с ливонскими немцами и в некоторых случаях опережала Псков, непосредственно соседивший с немецкими городами.
Москва была пионером и в развитии другого важного для средневековья производства – литья колоколов. Величина колоколов, их звучность, красота звука – постоянный предмет попечений и восхищения русских. Между тем литье колоколов требовало немало специальных знаний и мастерства. Потребность же в колоколах была постоянной. Даже в XVI-XVII вв. отливка большого колокола привлекала внимание современников, нередко отмечавших это событие в своих записях. И в этой области Москва шла впереди других русских городов.
В 1346 г., при Симеоне Гордом, мастер Бориско слил в Москве три больших и два малых колокола. Позднейший летописец называет Бориса «римлянином», но это только домысел, основанный на факте частого приезда в Москву итальянских мастеров с конца XV в. Имя Бориско – славянское; он был или русским, или южным славянином, может быть, из Болгарии, где имя Борис широко распространено. Характер летописной заметки позволяет думать, что литье колоколов являлось в Москве делом новым, в удачное окончание которого не совсем верили сами московские князья.
Одним из новшеств в русской жизни было устройство часозвоней. Их общественное значение особенно понятно в отдаленные годы, когда звон городских часов обозначал начало и конец торговли на рынке, время работы и отдыха и т. д. В Лицевой летописи XVI в. находим изображение башенных часов с циферблатом со славянскими цифрами от «а» (1) до «вi» (12). «Циферблат часов голубой и круглый, под ним свешиваются три голубые гири, средняя большая, по бокам две маленькие. Центр циферблата орнаментирован пальметками. Цифры идут по ободу… Выше приспособление для боя: на вертикальном стержне голубой щиток, направленный острым концом к колоколу. Колокол небольшой, помещается он в арочке». Это описание дает представление о московских часах, поставленных в 1404 г. Часник, или большие часы для города, был устроен сербом Лазарем, афонским монахом. Великий князь не поскупился на громадную по тому времени сумму (больше 150 рублей), чтобы украсить свою столицу часозвоней. Зато современник выразил восхищение от нее в таких словах: «Сии же часник наречется часомерье, на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и разсчитая часы нощныя и дневныя; не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвиж-но, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено». Знаменитая часозвоня новгородского архиепископа Евфимия возникла позже московской, может быть, по ее образцу.
С конца XV в. Москва становится центром производства огнестрельного оружия и боеприпасов. В производство пушек в это время внесли крупные технические усовершенствования. Уже в 1485 г. мастер Яков отлил в Москве пушку по образцу орудий, изготовляемых для артиллерии императора Максимилиана. Этот новый вид пушек без швов и с раструбом только что был внедрен, и притом не везде, в Западной Европе. В дальнейшем литье пушек стало для Москвы обычным явлением. Москва превратилась в арсенал, вооружавший Россию в XVI в.
Пушки потребовали немалое количество пороха, и одно известие 1531 г. показывает нам большое значение Москвы как центра производства боеприпасов. В Москве на Алевизовском дворе внезапно взорвалось «пушечное зелье» (порох). «Зелье» делали «градские люди», из числа которых сгорело 200 человек. Градские люди, или горожане, занимались производством пороха по найму или повинности. Для нас важно отметить, что это осуществлялось в больших масштабах.
МОСКОВСКИЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ СЛОБОДЫ
Средневековый обычай ремесленников селиться отдельными кварталами (по-русски – слободами) широко распространен в Западной Европе и на Руси. Этот обычай нашел свое отражение и в жизни Москвы XIV-XV столетий. В 1504 г. около оврага, выходившего к реке Неглинной, жили «солодяники». Внутри Кремля одну из улиц занимали портные – мастера великого князя.
К какому же времени следует относить начало московских ремесленных слобод? Общий ответ на этот вопрос, конечно, невозможен, но о происхождении некоторых из слобод можно сказать с достаточной достоверностью. Так, в летописном рассказе о большом московском пожаре 1547 г. сообщается, что погорели «…Гончары и Кожевники вниз возле реку Москву». В XVII в. за Яузой находилась Гончарная слобода, насчитывавшая в 1689 г. всего 89 дворов. Название двух Гончарных переулков и двух церквей с прозвищем «в Гончарах» до сих пор напоминает об этой слободе. Изыскания М. Г. Рабиновича, а также раскопки, произведенные на средства Государственного Исторического музея Б. А. Рыбаковым и М. В. Фехнер, установили, что гончарное производство возникло здесь, по крайней мере, в XIV-XV вв. Таким образом, у нас имеются все основания говорить о существовании особой Гончарной слободы в Москве великокняжеского периода, причем название слободы вполне соответствует специализации ее жителей. Возникновение Гончарной слободы в Заяузье вполне объяснимо местными благоприятными условиями для развития гончарного промысла, наличием глины и близостью к реке, наиболее удобному и дешевому пути для перевозки посуды на торговую площадь.
В Заяузье находились и две другие дворцовые слободы: Кошельная и Котельная или Котельничья. Об их существовании в этом районе напоминают названия московских церквей Николы в Котельниках и Николы в Кошелях. По-видимому, район за Яузой рано стал заселяться слободами как место, очень удобное для жилья ремесленников и в то же время первоначально не входившее в городскую черту. Здесь уже в XV в. мы находим не только великокняжескую, но и боярскую слободку, о которой пишет в духовной князь Иван Юрьевич Патрикеев: «…да мои же места, Зауязьская слободка с монастырем с Кузмодемьяном». Впоследствии в Заяузье видим две слободы: Старокузнецкую и Новокузнецкую. Старая Кузнецкая слобода находилась в районе церкви Кузьмы и Демьяна, а эти святые издавна считались патронами кузнецов. Здесь и надо искать «Заяузьскую слободку» князя Патрикеева, принадлежавшую ему в конце XV в. Впоследствии, после опалы Патрикеевых, слободка перешла в дворцовое ведомство и получила название Кузнецкой по производственной специализации ее жителей.
К числу ранних московских слобод, по всей вероятности, надо причислять и Кузнецкую слободу. Есть указание на то, что она стала известной уже с XV в. Однако это указание мне не удалось проверить по источникам, хотя оно очень достоверно. Впрочем, в его пользу говорит то обстоятельство, что Кузнецкая слобода очень близко расположена к Китай-городу. Объяснить эту близость легче всего тем, что слобода возникла рано, когда местность около Неглинной могла считаться еще сравнительно отдаленной от Кремля. Это надо относить ко времени Ивана Калиты, т. е. к первой половине XIV в. Позже город разрастается, и новые слободы возникают за пределами посада. Поэтому на территории Белого города мы и не находим других слобод, кроме Кузнецкой. Единственное исключение – Кисловская царицына слободка в районе Кисловских переулков. Происхождение этой слободки неясно, но она могла возникнуть в XVI столетии в связи с созданием в этом районе Опричного двора, если только не восходит ко временам великокняжеским, когда княгини получили свою долю по духовным великих князей.
В XVII в. в Москве находим целый ряд дворцовых слобод. Названия их происходят от дворцовых служб, но жители их были связаны и с городским торгом. По описаниям XVII в. существовали следующие слободы: Барашская, Басманная, Бронная, Гончарная, Денежная, Дорогомиловская (ямская или «гонная»), Иконная, Казенная, Конюшенная, Котельничья, Котельная, Кузнецкая, Огородная, Переславская гонная, Печатная, Плотничья, Пушкарская, Садовничья, Суконная, Сыромятная, Таганская, Хамовная, Ямская.
Крупнейший исследователь московских слобод XVII в. С. К. Богоявленский отмечает, что названия «слобода» и «сотня» равнозначны, однако название «сотня» применялось только к объединению непривилегированных «черных» людей. На вопросе о том, что собой представляли первоначальные «сотни», нам придется еще остановиться, здесь же отметим только одну замечательную особенность московских слобод XVII в.: все они находились за пределами не только Кремля и Китай-города, но и большей частью за пределами Белого города, за исключением Кисловской царицыной и Кузнецкой.
Такое расположение слобод объясняет нам очень многое в их истории. Московские слободы возникли за пределами городской территории, границы которой в основном совпадали с позднейшей чертой Белого города. Слободы, населенные людьми великого князя или московских князей-совладельцев, естественно, возникали за городской чертой и управлялись особо от других горожан.
МОСКОВСКИЕ ЧЕРНЫЕ СОТНИ
Московские слободки пользовались особыми правами и возникали на княжеских или боярских землях. Иной характер имели «черные сотни», которые в XVII в. представляли собой объединения «черных людей». По наиболее точным сведениям, приведенным С. К. Богоявленским в интереснейшей статье о московских слободах в XVII в., по прихотливым приказным счетам имелись следующие сотни, полусотни и четверти сотен: Арбатская четверть сотни по Арбату; Дмитровская сотня в Белом городе, между Тверской и Петровской; Новая Дмитровская сотня в Земляном городе, выделившаяся из предыдущей; Кожевницкая полусотня за Москвой-рекой в Кожевниках; Мясницкая полусотня в Белом городе по Мясницкой; Никитская сотня в Земляном городе за Никитскими воротами; Новгородская в Белом городе между Никитской и Дмитровской сотнями; Ордынская за Москвой-рекой, по Ордынке и Пятницкой; Покровская в Белом городе, от Сретенки до Ивановского монастыря; Пятницкая за Москвой-рекой, по Пятницкой улице; Ржевская, находившаяся, по-видимому, в Белом городе, у Пречистенских ворот, где были церкви Ржевской Богоматери и Ржевской Пятницы; Ростовская, вероятно у Пречистенских ворот; Сретенская в Белом городе, по Сретенке; Устюжская полусотня в Белом городе, около Большой Никитской; Чертольская четверть сотни у Пречистенских ворот. Всего в XVII в. известно было 15 сотен, полусотен и четвертей сотен. Кроме того, две сотни, Гостинная и Суконная, не были территориальными единицами, а включали в свой состав крупное купечество.
К какому же времени восходят московские сотни и можно ли считать их новообразованием XVI-XVII вв. или их надо относить к более раннему времени и к какому именно? Вопрос имеет не только местное, но и общеисторическое значение, так как он связан с другой, не менее важной проблемой: была ли сотня времен феодальной раздробленности территориальной единицей или имела какой-то иной характер.
Как известно, сотни существовали в древнее время в больших русских городах. В Новгороде сотни появились раньше, чем концы, и в XII -XIII вв. имели крупное значение. Только позже кончанское деление оттесняет первоначальное сотенное деление на второй план, что связано с победой городского патрициата над черными людьми. В Пскове, где противоречия между боярами и черными людьми в силу общей опасности от близких иноземных врагов реже выливались в форму острых конфликтов, сотенное деление удержалось дольше, чем в Новгороде. В XVI- XVII вв. псковская сотня в основном напоминала сотню московскую, она сделалась уже территориальной единицей, может быть, еще сохраняя остатки прежнего производственного характера. Сотни существовали и в других средневековых русских городах. Сохранение в Москве традиционного деления городского населения по сотням – явление очень любопытное. Оно указывает на большую архаичность московских городских порядков в царское время, когда сотни и слободы так и остались основными территориальными единицами, на которые делился город. Несмотря на большие размеры города, в Москве не было ничего похожего на кончанское деление Новгорода. Это, конечно, не случайно, а коренится в особом положении московского населения. Сильная великокняжеская власть не давала возможности усилиться городскому боярству и в то же время охотно сохраняла льготное положение городских купцов и ремесленников. Поэтому так рано исчезают тысяцкие и так долго остаются разрозненные сотни. Некоторый ответ на вопрос о значении московских сотен и времени их появления дают названия сотен и их размещение. Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что в XVI- XVII вв. московские сотни находились за пределами не только Кремля, но и Китай-города. Между тем сотни известны уже в XIV в., когда население Москвы в основном занимало территорию Кремля и Китай-города, за пределами которых находились лишь отдельные слободы. Значит, сотни XVII в.- явление позднейшего характера и связаны с расширением города, они возникли не раньше, чем со второй половины XV в. Нашу мысль подтверждают названия некоторых сотен от их приходских церквей или улиц (Арбатская, Пятницкая, Ордынская, Сретенская, Чертольская). Но за вычетом их остаются еще сотни, носившие названия по различным русским городам: Новгородская, Ржевская, Ростовская, Устюжская. К ним же можно причислить Дмитровскую сотню, хотя и расположенную по улице Дмитровке, но, возможно, получившую свое название по другому признаку. Наконец, имеются две сотни с названиями, указывающими на их производственную специализацию: Мясницкая и Кожевницкая. Эти названия стоит сопоставить с прозвищами соответствующих церквей, находившихся в упомянутых сотнях: в Мясниках и в Кожевниках. Нет никакой натяжки в признании, что обе сотни первоначально объединяли мясников и кожевников, имея производственный характер, так же, как сотни Новгородская, Ржевская, Устюжская и Дмитровская объединяли купцов, торговавших с теми городами, от которых сотни получили свое прозвание.
ПРИТОК РЕМЕСЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В МОСКВУ
Судя по указаниям на новые слободы, возникавшие вокруг Москвы, население города в XIV-XV вв. росло очень быстро. Никакие разорения, осады и пожары не могли задержать поступательный рост населения Москвы. Дома быстро отстраивались, церкви заново украшались, и через год-два после очередного пожара город опять становился многолюдным и оживленным. Это свидетельствует о том, что увеличение населения Москвы происходило не столько за счет естественного прироста, сколько вследствие постоянного прилива новых поселенцев, горожан из других городов, крестьян и беглых холопов, которых Москва притягивала к себе как большой центр, где можно было скрыться от преследования господ и найти работу. Приток крестьянского населения в города давно уже отмечен историками средневековья в Западной Европе. С тем же явлением встречаемся в средневековой Москве.
О бегстве холопов и крестьян в Москву говорит договор великого князя Василия Дмитриевича с его двоюродным дядей Владимиром Андреевичем Серпуховским (1389): «…а в город нам послати своих наместников, и тобе своего наместника, ини очистять наших холопов и селчян, а кого собе вымемь огородников и мастеров, и мне, князю великому, з братьею два жеребья, а тобе, брате, треть». Как видим, среди беглых холопов и сельчан выделяются две категории: ремесленники («мастера») и огородники. Великий князь владел Москвой совместно с братьями и Владимиром Андреевичем. Тем не менее князья вынуждены были договариваться о поисках в Москве своих беглых холопов и сельчан, так как отыскать беглого холопа или сельчанина среди городских людей, видимо, было задачей нелегкой, а подчас неисполнимой.
Что же означает договорная статья о холопах и сельчанах, признание их свободы в городе или полное ее отрицание?
Комментируя приведенную выше статью междукняжеских договоров, В. Е. Сыроечковский приходит к выводу, что «…в противоположность городам Запада «городской воздух» княжеской Москвы не изменял судьбы холопа: князья требовали возврата их». Как видим, слова «очистять» и «вымемь» автор понимает в том смысле, что князья возвращали крестьян и холопов в прежнюю зависимость. Однако В. Е. Сыроечковский не обратил внимания, в каких именно договорах встречается статья о сельчанах и холопах, придав ей значение общего правила и цитируя почему-то договор 1433 г.
Впервые статья о сельчанах и холопах, бежавших в город, появляется в договоре Василия Дмитриевича с Владимиром Андреевичем. Чем вызвана эта статья и о чьих холопах и сельчанах идет речь? Конечно, о людях обоих договаривающихся князей («наших»). Князей интересуют не просто беглые крестьяне и холопы, а мастера и огородники. И те и другие, видимо, остаются в Москве, а не возвращаются в старое тягло, потому что две трети («жеребья») найденных людей переходят к великому князю, а одна – к Владимиру Андреевичу, что соответствует правам Василия Дмитриевича и Владимира Андреевича на Москву, где первый имел два жеребья, или две трети, а второй одну треть.
В. Е. Сыроечковский не обратил внимания еще на одну особенность статьи о сельчанах и холопах, заключающуюся в том, что она встречается только в договорах великих князей с представителями совершенно определенной ветви княжеского дома: потомками Андрея Ивановича и его сына Владимира Андреевича. Перед смертью Калита дал Москву в третное владение своим детям: Симеону, Ивану и Андрею. По смерти Симеона две трети попали в руки Ивана, а последняя треть осталась у Андрея и его потомков. Такое третное владение, естественно, вызывало различного рода недоразумения между великим князем и его боковыми родственниками. Вот почему договор давал право удельному князю вылавливать из числа своих («наших») холопов и сельчан, бежавших в Москву, наиболее ценные категории мастеров и огородников.
Но что было далее с этими мастерами и огородниками, выводились ли они из города и обращались ли в старую зависимость? Так именно думает Г. Е. Кочин, составитель «Материалов для терминологического словаря Древней России». Он пишет: «Очистити холопов и сельчан – выяснить, установить их принадлежность тому или иному феодалу». Но тут же рядом Г. Е. Кочин помещает, при этом со ссылкой на большое количество документов, другое значение слова «очистити», «очищать» – очищать от договорных обязательств, от заклада. В свете второго значения, видимо, и следует понимать статью о сельчанах и холопах. Речь идет не о возвращении их старым владельцам, а об оставлении в городе с подчинением определенному третному владельцу. Самая необходимость подобной статьи для княжеских договоров весьма поучительна, ибо показывает особое положение московского населения в XIV- XV вв., где даже холопов и сельчан великого князя и его ближайших сородичей надо было «вынимать» и «очищать» путем посылки наместников, иначе они могли затеряться среди свободного городского населения.
Князья устанавливали свое право вылавливать в городе холопов и сельчан, бежавших из их владений. Но как это можно было сделать с пришлыми из далеких княжеств и городов? В большом городском центре, где население разбросано по посадам и слободам, трудно было установить, кто из пришлых ремесленников был ранее холопом или крестьянином, а мешать росту городского населения, конечно, не входило в интересы князя. Поэтому «городской воздух» в Москве, как, вероятно, и в других больших русских городах, фактически делал свободным, по крайней мере, в эпоху феодальной раздробленности XIV-XV вв.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ В МОСКВЕ
Уже в XIV в. в договоры великих князей с их удельными родственниками вносилось правило: «…а который слуги потягли к дворьскому, а черный люди к сотником, тых ны в службу не приимати, но блюсти ны их с одиного, тако же и численых людий».
Таким образом, слуги великих и удельных князей, т. е. их вассалы, несшие военную службу, упомянуты параллельно с черными людьми, вероятно, потому, что в положении тех и других было что-то общее.
Средневековый ремесленник и купец, как всякий свободный человек, был боевой единицей и умел владеть оружием. Облик такого воина-купца выступает перед нами в рассказе об Адаме-суконнике, который во время осады Москвы полчищами Тохтамыша стоял на воротах и застрелил знатного татарина стрелой из самострела. Адам-суконник, которого напрасно готовы были сделать иноземцем за его несколько необычное для русских имя (в летописи он назван «москвитином»), стрелял с Фроловских ворот. Это напоминает нам о позднейшем обычае XVI- XVII вв. расписывать городских людей на случай осады по городским воротам и башням.
В защите города участвовали все горожане, причем источники особо отмечают активность черных людей. Татары пускали на город множестве стрел, а москвичи стреляли из луков и бросали камни. Когда же татары стали взбираться по лестницам на стены, горожане лили на них кипящую воду, стреляли из «тюфяков» и пушек.
Черные люди входили в состав «московской рати», выступавшей на войну со своим воеводой. В нее зачисляли богатых москвичей – сурожан, суконников, купцов, а также других горожан «…коих пригоже по их силе». Смысл последней фразы ясен: речь идет о возможности экипироваться на свой счет для похода (в данном случае для дальнего похода на Казань), что рядовой москвич не всегда был в состоянии сделать.
Во главе московской рати стоял воевода, назначенный великим князем. Этому пункту великие князья придавал» важное значение и оговаривали его в междукняжеских договорах. Московская рать, пополненная горожанами составляла ядро военных сил Московского великого княжества, а в случае внезапной опасности – его единственную силу. С необыкновенной четкостью это выясняется в рассказе о битве в 20 верстах от Москвы, на Клязьме в 1433 г. Претендент на великое княже ние Юрий Дмитриевич подошел к Москве с большим войском: «…с князем же Юрьем множество вой, а у великого князя добре мало, но единако сразишася с ними, а от москвичь не бысть никоея помощи, мнози бо от них пьяни бяху и с собою мед везяху, что пити еще». Пьяное войско, естественно, потерпеле поражение.
ВОССТАНИЯ ЧЕРНЫХ ЛЮДЕЙ
Наши источники дают очень мало сведений о социальных отношениях и классовой борьбе в Москве XIV- XV вв. Летописи, занятые главным образом описанием событий, происходивших в княжеской и духовной среде только случайно отмечают отдельные моменты классовой розни, которая нередко выливалась в форму борьбы между «большими» и «меньшими» людьми. Известно, что под «большими», «лучшими», «вятшими» людьми понималась верхушка феодального города – боярство, купцы, духовенство. К «большим» нередко примыкали средние слои населения – зажиточные ремесленники и купцы. Иногда представители средних слоев выступали против городских верхов, но эта, по выражению Энгельса, «бюргерская оппозиция» очень быстро объединилась с феодальной верхушкой в борьбе против «меньших» или «худших» людей. Под термином же «меньшие» люди понималась основная масса населения феодального города – мелкие ремесленники и торговцы, поденщики, беглые холопы, составлявшие плебейскую часть горожан.
Борьба «больших» и «меньших» людей проходит красной нитью через всю историю Великого Новгорода. Но она не была исключительной особенностью только новгородской истории. То же самое мы наблюдаем и в городах Суздальской, Киевской и Галицко-Волынской Руси в XI-XIII вв. В Северо-Восточной Руси эта борьба продолжается и в XIV в., в период экономического и политического роста Москвы. Летописи сообщают нам о нескольких случаях городских восстаний в первой половине XIV в. В 1304 г. «…бысть вечье на Костроме на бояр на Давыда Явидовичя, да на Жеребца и на иных, тогда же Зерна убили Александра». Судя по тексту летописи, вече сопровождалось погромом некоторых боярских семей.
Кто же выступал против бояр? Об этом более подробно говорит другое известие, относящееся к 1305 г.: «В Новгороде в Нижнем черные люди побили бояр; пришед же князь Михайло Ярославичь из Орды в Новгород в Нижней, и изби вечников». Таким образом, на вече в Нижнем Новгороде выступали черные люди. Кратковременная победа «вечников» над боярами вскоре сменилась поражением. Князь встал на защиту боярства.
События в Костроме и в Нижнем Новгороде не были единичными. «Коромольницы» (т. е. крамольники) брянцы, жители значительного города Брянска, выдали своего князя Святослава во время боя с татарами, бросив знамена и обратившись в бегство. В 1340 г. «…сшедшеся злыя коромольницы вечем брянци» убили князя Глеба Святославича.
«Меньшие» люди стремились сохранить последний остаток городской вольности – вече. Поэтому летописи, написанные чаще всего духовенством, презрительно называют восставших «вечниками». Перенос или вывоз вечевого колокола обозначал собой потерю городской вольности. В Новгородской летописи XV в. сохранился рассказ о «вечном» колоколе, перевезенном князем Александром Васильевичем из Владимира в Суздаль. Этот колокол, по сказанию летописца, не стал звонить в Суздале. Князь велел отвезти его обратно во Владимир, «…и привезьше колокол и поставишя и в свое место, и пакы бысть глас благоугоден». Внимание летописца к «вечному» колоколу, как и весь этот рассказ, станет понятным, если признать значение колокола как символа власти владимирского веча.
Борьба за вечевые вольности происходила и в Москве. Убийство московского тысяцкого Алексея Хвостова вызвало «…мятеж велий на Москве» и бегство больших бояр в Рязань. Это непонятное бегство бояр может быть объяснено выступлением против них «черных» людей. Особенно ярко классовая борьба проявилась в Москве во время осады 1382 г.
Московское восстание 1382 г. до сих пор еще почти не освещено в исторической литературе, хотя и является крупным событием. Когда хан Тохтамыш с большим войском подступил к Москве, «черные» люди организовали оборону города. Они стояли на всех городских воротах с обнаженным оружием и бросали камни в людей, бежавших из Москвы в это трудное время. Эгоизм высших кругов, стремившихся покинуть город, вызвал возмущение горожан. Некоторые сказания говорят о разбоях и грабежах, о разграблении господских погребов и т. д. Но даже эти сказания не могут скрыть того факта, что «черные» люди взяли в свои руки защиту города. К ним примкнули и некоторые купцы, один из которых, Адам-суконник, уже был назван выше. Прозвище указывает на его принадлежность к корпорации купцов, торговавших сукнами. Движение горожан было направлено против верхушки феодального города. Летопись тенденциозно отмечает «добрых людей», против которых выступили «…и сташа суймом (т. е. толпою.- М. Т. ) народи мятежницы, крамолницы».
Восстание 1382 г. закончилось катастрофой. Несмотря на полную возможность обороны города, защитники его сдались Тохтамышу, и Москва была вероломно взята и разорена татарами. Обстоятельства внезапной сдачи несколько неясны. Можно предполагать, что в ней немалую роль сыграла боязнь духовенства и «больших» людей дальнейшего увеличения власти «черных» людей. Этим, возможно, объясняется поспешное согласие москвичей на требование Тохтамыша пустить его в город.
Тем не менее события 1382 г. оставили по себе яркий след как последняя попытка московских горожан хотя бы временно восстановить вечевые порядки. Народ поднялся суймом и собрался на вече: «…сотвориша вече, позвониша во все колоколы».
С большим вероятием можно думать, что отголоски московской осады 1382 г. сохранились и в былинах о царе Калине, осаждавшем Киев. Центральной частью этой былины является рассказ о застреленном из лука ханском зяте Сартаке. Былинный герой Василий Пьяница взбегает «…на башню на стрельную» и стрелой убивает Сартака. Имя Калин, несомненно, татарского происхождения. В 1448 г. татарский посол Калин ходил к польскому королю Казимиру.
Заметную активность чернь проявляет и во время других бедствий и опасностей, постигавших Москву. После пленения Василия Темного татарами (1445) великие княгини покинули столицу и уехали в Ростов. Все, кто мог, также бежали из города, «…чернь же совокупившеся начяша врата граднаа преже делати, а хотящих из града преже бежати начяша имати, и бити, и ковати, и тако уставися волнение, но вси обще начяша град крепити».
ГЛАВА VI. ИНОСТРАНЦЫ В МОСКВЕ
ГРЕКИ
Население Москвы, естественно, было довольно пестрым. В его составе, кроме русских, следует предполагать и некоторое наличие иностранцев из тех стран, с которыми Москва поддерживала политические и торговые связи. Теоретически можно допустить, что в Москве жили татары и другие народы Востока, греки, болгары и сербы, итальянцы (в первую очередь генуэзцы из черноморских колоний), армяне, литовцы и поляки, немцы. Однако доказать действительное пребывание в Москве представителей этих народов – дело трудное и подчас невозможное – так отрывочны и разрозненны наши источники.
Наиболее несомненно существование постоянной греческой колонии, место которой можно искать на Никольской улице, получившей свое прозвище от греческого монастыря с церковью Св. Николая, находившегося на самом конце улицы у позднейших Владимирских ворот. Уже в конце XIV в. монастырь прозывался Николою Старым, раньше, чем получил другое название – Большая Глава. Случай, по которому упоминается монастырь Николы Старого, весьма показателен для характеристики его значения. В 1390 г. митрополит Киприан вернулся из Константинополя в Москву и был торжественно встречен великим князем. Вместе с ним прибыли два греческих митрополита и русские епископы. Перед вступлением в Кремль митрополиты облачились у Николы Старого в архиерейские одежды и пошли крестным ходом в Успенский собор в Кремле. Таким образом, Никола Старый, позднейший греческий монастырь, в известии конца XIV в. явно связывается с прибытием греческих иерархов.
Митрополит Киприан, видимо, любил греческий монастырь Николы, может быть, даже в ущерб русским обителям в Москве. При нем этот монастырь служил местом заключения для русских епископов; в нем три с половиной года сидел в заточении новгородский архиепископ Иван.
В 1556 г. Никольский монастырь был отведен для приезда и временного пребывания в Москве афонских монахов. Вероятно, это не было новизной, а только подтверждением афонских привилегий более раннего времени, потому что греки были нередкими гостями в Москве и раньше. Еще в 1627 г. монастырь назывался Николой Старым («у Николы у чудотворца у Старого»), а в 1658 г. в нем жили греческий архимандрит и келарь. Патриарх Никон угощался у них греческими кушаньями как любитель всего греческого (монахи-греки «…строили кушанье государю патриарху по-гречески»). Никольский монастырь иногда назывался и другими прозвищами: «Большая Глава» или «что за Иконным рядом». Самое прозвище Большая Глава, возможно, указывает на какую-либо архитектурную особенность, например, на византийский купол. Действительно, на чертеже Москвы в альбоме Мейерберга в этом месте показана довольно изящная церковь с одной главой, впрочем, ничем особенным не выделяющаяся по сравнению со многими другими церквами, изображенными на чертеже.
В XVII в. греческая слобода помещалась уже за городом в приходе церкви Николы на Ямах за Яузою, но в более древнее время эта местность находилась еще далеко за чертой города. Значит, появление здесь греков произошло сравнительно поздно. Главным местом их первоначального поселения надо считать районы Николы Старого и Никольской улицы, где до последнего времени нередко селились греческие семьи. От церкви Николы Старого получила свое название и Никольская улица, позднее сделавшаяся главной магистралью Китай-города. В XVII в. на Ильинской улице стоял греческий двор.
В XIV-XV вв. связи Москвы с Константинополем несомненно были более оживленными, чем в позднейшее время. Греческое влияние и греческий язык приносили с собой прежде всего митрополиты и епископы из греков. Митрополиты Феогност и Фотий не могли обходиться без соответствующего штата из приближенных греков. Феогносту приписываются даже отрывки из записной книжки с записями о различных статьях митрополичьего обихода, недавно опубликованные Бенешевичем и Приселковым. Прекрасно знал греческий язык и византийскую письменность митрополит Киприан, тесно связанный с образованными кругами болгарской столицы Тырнова. Епископы-греки нередко управляли русскими епархиями, к их имени обычно прибавляли в пояснение слово «гречин».
Кроме того, очень нередки были «гости» из духовенства, начавшие с XIV в. усиленно посещать русские города для сбора милостыни. При митрополите Киприане в Москве был трапезундский митрополит Феогност, а на следующий год два греческих митрополита, Матфей Адрианопольский и Никандр Ганский. Приезды трапезундского и адрианопольского митрополитов в 1389 – 1390 гг., вероятно, преследовали какие-то политические цели и стояли в связи с турецкими победами на Балканском полуострове и наступлением на Трапезундскую империю и Константинополь.
Быстрый рост Московского княжества привел к усилению его значения. Византийская империя, нуждаясь в материальной поддержке, обращала свои взоры на Московскую Русь. Византийские императоры готовы были рассматривать русские земли как своего рода провинции Византийской империи. Один из поздних византийских базилевсов Иоанн Кантакузин именовал себя «…непоколебимым столпом всех крещеных, защитником догматов Христовых, мечом Македонов, царем Эллинов, царем Болгар, Асаниев, Влахов, Русских и Аланов». Однако действительность была очень далека от притязаний греческих царей, и русские отнюдь не считали себя подданными византийских правителей. Поэтому в официальных документах тот же Иоанн Кантакузин называл Симеона Гордого великим князем Руси, любезным сродником царского величества.
Позже византийские императоры завязали с московскими князьями родственные отношения. Великий князь Василий Дмитриевич «…отда дщерь свою Анну за царевича за Ивана за Мануиловича во Царьград». Это произошло в момент большого политического напряжения Византийской империи, которой угрожал султан Муса. Брак был заключен, по византийским известиям, в 1414 г. Анна прожила недолго и умерла от морового поветрия. Ее супруг позже сделался императором под именем Иоанна VIII Палеолога.
Нет ничего удивительного в том, что греческое культурное влияние сказывалось в Москве XIV-XV вв. очень сильно. Обычно его связывают с митрополитом Киприаном, но это неправильно. Вместе с Киприаном в Москве появилась не столько греческая, сколько южнославянская струя, принесенная из Болгарии и Сербии, тогда как греческий язык получил распространение среди образованных русских людей задолго до Киприана. Рассадником византийского просвещения в XIV в. был Богоявленский монастырь в Москве. По очень достоверным показаниям, это значение монастырь получил еще при митрополите Феогносте в первой половине XIV в. Монахи Богоявленского монастыря поддерживали тесные отношения с митрополитом Феогностом, греком по происхождению, прекрасно понимавшим первенствующее положение московских князей. «Любяше же их, – пишет о богоявленских монахах современник, – и Феогнаст митрополит всея Русии и чясто к себе призываше, и упокаиваше, и прохлажаше, и почиташе их добре».
Среди русских монахов Богоявленского монастыря особенно выделялись Алексей и Стефан. Алексей, впоследствии поставленный московским митрополитом, был образованным человеком. Ему приписывают переводы Нового завета с греческого языка на русский. Стефан, брат Сергия Радонежского, из рода радонежских бояр, был игуменом Богоявленского монастыря и любимым духовником московской знати, в том числе самого князя Симеона Гордого.
Знание греческого языка было довольно распространенным в среде московского духовенства уже с середины XIV в. Митрополит Алексей собственноручно подписался по-гречески на грамоте о границах Сарайской епархии: «Алексей божией милостию митрополит всея России, и пречестен». Издатели указывают, что титул «и пречестен» принадлежал в Византийской империи только знатнейшим митрополитам, ранее им пользовался предшественник Алексея митрополит Феогност. Митрополита Алексея и надо считать истинным насадителем греческого просвещения в Москве. Вслед за Богоявленским монастырем, из стен которого вышел сам Алексей, под его непосредственным наблюдением и попечением возникли и другие московские монастыри, рассадники византийской образованности: Симонов, Андроников и Чудов.
Основатель Симонова монастыря, игумен Феодор, был частым гостем в Константинополе. В 1383 г. он ездил по поручению великого князя в греческую столицу и прожил в ней свыше года. В 1386 г. Феодор по желанию великого князя снова отправился в Константинополь и жил там продолжительное время. После смерти ростовского епископа Матфея Гречина игумен Феодор был поставлен на его место, но уже в сане архиепископа. Что в Ростове в это время имелись греческие книги и были люди, знавшие греческий язык, видно из того, что там до поставления в пермские епископы жил Стефан Храп. В Ростове он выучился греческому языку и грамоте. «Добре» читать и говорить по-гречески нельзя было научиться без знающих и опытных наставников. Долгое пребывание Феодора в Константинополе не могло пройти для него бесследно, но еще вероятнее, что Феодор, как и Стефан, изучил греческий язык уже дома. Имеются переводы творений патриарха Филофея с пометой: «…преведен же бысть на русьскый язык Федором пръво прозвитером». Известно, что Алексей был поставлен на русскую митрополию патриархом Филофеем, который и после поддерживал московского митрополита против его врагов. Поэтому в Феодоре первопресвитере с полным основанием можно видеть позднейшего симоновского игумена, научившегося греческому языку в Богоявленском монастыре или при дворе митрополита.
Что касается Андроникова монастыря, то он был основан митрополитом Алексеем по обету, данному во время морской бури при путешествии в Царьград. Воображение его основателей дало небольшому ручью, впадающему в Яузу и текущему в глубоком овраге, название Золотого Рожка в память о безопасной и величественной пристани в константинопольском Золотом Роге. Андроников монастырь быстро стал одним из центров переписки церковных книг.
Великолепный Царьград так привлекал к себе русских людей в XIV- XV вв., что некоторые из них навсегда покидали родину и оставались в нем до конца жизни. Так поступил игумен серпуховского Высоцкого монастыря Афанасий, купивший в Константинополе келью и скончавшийся на чужбине. Записи на книгах говорят нам, что он был не одинок в своей любви к Царьграду. Русские доброписцы-каллиграфы застревали в греческих монастырях, где занимались переводом книг с греческого на русский язык. Некоторые записи на книгах Чудова монастыря XIV-XV вв. сделаны по-гречески. Например, в рукописи библиотеки Чудова монастыря находим подпись: «Правил иеромонах Иона, етос (т. е. лета.- М. Т.) 6951», т. е. в 1443 г.
Торговые отношения обычно имеют взаимный характер, но сказать положительно о пребывании греческих купцов и ремесленников в Москве не так легко. Однако и в данном случае мы не совсем бессильны. В. Г. Васильевский признал имя Некомата-сурожанина, столь долго интриговавшего против Дмитрия Донского, греческим. Между тем он был сурожанином, т. е. купцом, торговавшим с Сурожем в Крыму,городом-посредником в русско-греческой торговле XIV-XV вв.
Тот же В. Г. Васильевский отмечает еще имена других гостей-сурожан, которые также могут быть признаны греческими.
Кроме торговых людей в Москве появлялись греческие ремесленники и художники. Успенский собор, как мы видели, был расписан греческими «митрополичьми писцами». Какая-то часть ремесленников и торговцев греческого происхождения должна была оседать в Москве, а общность веры способствовала еще большему сближению греков и русских. После взятия Константинополя турками в Москву добрались волны беженцев. Очень примечательно то, что греческие слова сохранились в «условном языке» галичан (в Костромской губернии). Об этом языке писал Ф. Н. Глинка в 1816 г.: «Сохраненное и поныне в некоторых купеческих обществах, оно доставляет им способ, особливо тем, которые разъезжают по ярмаркам, объясняться друг с другом о цене товаров и о прочем так, что никто из предстоящих разуметь их не может. Сие галичское наречие называют «Галивонские алеманы». Новейший исследователь этого языка Н. Н. Виноградов отметил в нем наличие ряда греческих слов: хириа (греч. ) – рука, пенди (греч. ) – пять и др. В. И. Даль еще раньше утверждал, что подобные греческие слова искони занесены с Сурожья.
ИТАЛЬЯНЦЫ (ФРЯГИ)
Среди иноземцев, живших в Москве, находим также итальянцев, или фрязинов. Они появлялись на севере при посредстве донского пути, проходившего на юг чаще всего через Москву, конечный пункт длинной морской и речной дороги из Константинополя в Русь.
Торговые люди и ремесленники из итальянцев порой оседали в Москве и оставались в ней на постоянное жительство. Выше говорилось уже о сурожанах Саларевых, прозвище которых позволяет думать об их итальянском происхождении.
Близость, возникшая между русскими и итальянцами, вызвала ревнивые взоры церковных властей, запрещавших русским родниться с «латынами» (католиками), брататься и кумиться под угрозой церковных репрессий. Во второй половине XV в., когда приток итальянцев еще более усилился, мы находим в Москве постоянную итальянскую колонию, с тем отличием от прежнего времени, что среди приезжих фрязинов начинают теперь преобладать венецианцы. Московское великое княжество, как известно, привлекало внимание Венеции, надеявшейся сколотить на Востоке союз государств для борьбы с Турцией. Вот почему венецианские послы в Персию, известные Барбаро и Контарини, возвращались через русские земли и виделись в Москве с Иваном III.
Одно краткое известие заставляет думать, что итальянская колония в Москве имела свою католическую церковь. В 1492 г. в Москве произошло событие, которое произвело столь большое впечатление на русских, что летописец отметил его даже точной датой (17 мая): «Иван Спаситель Фрязин, каплан постриженый Аугустинова закона белых чернцев, закона своего отрекся и чернечество оставил, женился, понял за себя Алексеевскую жену Серинова, и князь великий его пожаловал селом». Ренегатство католического священника рассматривалось в Москве как торжество православия. Отсюда непосредственное участие великого князя и пожалование села новообращенному. Но каким образом католический монах-августинец оказался в Москве и что он там делал? Как видим, он был капланом, т. е. капелланом, или настоятелем церкви. Это обстоятельство должно было вызвать еще большее ликование в московских церковных кругах, рассматривавших католическое духовенство как своего векового врага.
Поддержание тесных связей с Италией и наличие итальянской колонии в Москве было явлением большого значения, оказавшим немаловажное влияние на русскую культуру. Появление Аристотеля Фиоравенти и других итальянских мастеров в Москве вовсе не носило характера внезапного поворота в сторону западноевропейской культуры, как это обычно рисуется в наших исторических работах. Культурные итальянские навыки притекали на Русь задолго до Ивана III, причем они шли в основном через Москву, а не через какой-либо иной город Северной Руси. В этом отношении географическое положение Москвы, главным образом ее связь с Окой и Доном, сыграло для нее положительную роль, сделав великокняжескую столицу рассадником культурных навыков, притекавших на север из Средиземноморья.
Приток в Москву итальянцев еще более усиливается с конца XV в. Это были мастера стенные, палатные, пушечные и серебряные. Из рассказа Контарини, бывшего в Москве в 1486 г., видно, что итальянцы поддерживали между собой тесные связи. Контарини называет двух итальянцев, с которыми он встретился в Москве: которского уроженца Трифона, делавшего для великого князя серебряные сосуды, и Аристотеля Болонского (Фиоравенти).
Потомки итальянцев, осевших в Москве и принявших православие, вступали в число дворян или городских людей. В XVII в. в Москве жили, например, подьячий Андрей Фрязин, Иван Фрязов, немчин Максим Фрязов, Матвей Иванов Фрязов. Среди убитых под Казанью детей боярских находим Ивана Павлова, сына Аристотелева. Не был ли этот боярский сын Аристотелев внуком знаменитого архитектора? Впрочем, летопись знает только одного сына Фиоравенти – Андрея.
Итак, у нас есть основания думать, что итальянцы-фрязины не только появлялись и оседали в Москве на постоянное жительство, но имели здесь и свою колонию. Однако местожительство итальянцев, как и других «латинян» (католиков), не поддается приурочиванию. Более твердая и упорная крестьянская память сохранила под Москвой несколько деревень с названиями Фрязево, Фрязино и т. д., но в городе древние названия менялись быстрее и прихотливее. К тому же, если предполагать, что католики уже в XIV-XVI вв. имели в Москве свою церковь с капелланом, то их поселение должно было находиться за городской чертой, в особой слободе. Позднейшая Немецкая слобода (Кокуй) находилась в XIV-XV вв. слишком далеко от города, но И. М. Снегирев указывает старое Немецкое кладбище в районе церкви Николы на Болвановке, у Таганских ворот. Может быть, здесь и надо искать первоначальную фряжскую колонию.
АРМЯНЕ
Можно считать несомненным и существование в Москве более или менее постоянной колонии армян, которые жили на посаде в начале XV в. В 1390 г. «…загореся посад за городом от Аврама, некоего ерменина». Выражение «посад за городом» указывает, скорее всего, на территорию Китай-города, а не на позднейший Белый город, где находится известный Армянский переулок, получивший такое название, впрочем, лишь с XIX в. В XVII в. поблизости от Варварки еще указывали место, «…что ставились на нем арменя и греченя». В этом районе следует искать дворы армян, если они составляли в Москве какую-либо постоянную колонию. В XVIII в. некоторые строения, принадлежавшие армянам и годные для армянской церкви, еще стояли в Китай-городе, между Ильинкой и Варваркой, причем нет никаких оснований думать, что в это время армяне впервые поселились там.
В торговых делах армянские купцы проявляли большую активность. При их посредстве поддерживалась транзитная торговля по Волге, в которую были втянуты Золотая Орда, Закавказье и Персия. Вопреки распространенным мнениям о малом знакомстве русских с иностранными государствами, мы сталкиваемся с фактами, обнаруживающими у русских хорошее знание стран Востока. Среди народов Кавказа русские летописи упоминают и армян. Главным торговым путем для армян, естественно, была Волга. В 1368 г. новгородские ушкуйники перебили в Нижнем Новгороде «бесермен и армен» и «…товар их безчислено весь пограбиша». Торговые дороги вели к Москве как центральному торговому пункту Северо-Восточной Руси.
В московских торговых операциях участие армянских купцов, видимо, было немаловажным, судя по некоторым намекам, смысл которых становится ясным только тогда, когда мы признаем наличие заметного армянского элемента в московском обществе. На рубеже XIV-XV вв. митрополит Киприан отвечал на вопросы ученого игумена Афанасия Высоцкого. В полном соответствии с византийской нетерпимостью по отношению к другим вероисповеданиям Киприан ополчился против армян. По мнению митрополита, армянская ересь была самой гнусной из всех ересей, вследствие чего православный христианин не должен общаться с армянами, не допускать их к себе в праздничные и постные дни, а тем более в церковь, не завязывать с ними дружбы или любви. За строгими внушениями митрополита явно чувствуется подлинная действительность. Рядовые русские люди не видели больших различий между православием и армянским вероисповеданием, охотно общались и пировали с армянами, допускали их в свои церкви и вступали с ними в браки. Иначе зачем было бы в чин избрания и поставления в епископы включать обязательство «…не оставити в всем своем пределе ни единого же от нашея православныя веры ко арменом свадьбы творити, и кумовьства и братьства». Для русских купцов в городах Ближнего Востока и Нижнего Поволжья армяне были самыми близкими по вере, что приводило к кумовству и братству, вызывавшим такое недовольство церковных кругов.
БЕСЕРМЕНЫ
Значительной и важной группой московского населения должны были являться татары и прочие «бесермены», т. е. мусульманские народы. Позднейшее, но очень вероятное предание считало, что митрополит Алексей основал Чудов монастырь на месте Татарского двора, принадлежавшего московским баскакам. Следовательно, татары первоначально жили в самом Кремле в непосредственной близости к великокняжескому дворцу. Подтверждение этому преданию видим в аналогичных явлениях в таких крупных русских городах, как Тверь, где царевич Щевкал, убитый в восстание 1327 г., жил на великокняжеском дворе.
На практике местонахождение татарских дворов в Кремле было не очень удобным для самих татар и приезжих восточных купцов, так как, естественно, стесняло их деятельность. Поэтому, видимо, рано создается Татарская слобода за городом, в Замоскворечье, в районе современных Татарских улиц, упомянутая уже в одном документе 1619 г. Во всяком случае, можно не сомневаться, что в XVI в. Татарская слобода в этом районе уже существовала, так как время, непосредственно примыкавшее к «московскому разорению», не было периодом, благоприятным для создания новых слобод вокруг Москвы. В известиях середины XVI в. упоминается Ногайский двор, стоявший «за рекою Москвою». Сюда приходили торговать ногайские татары. Главным их товаром являлись лошади, которыми торговали на лугу под Симоновым.
На старое заселение татарами района Замоскворечья указывают и некоторые другие признаки. Улица, выходившая из Замоскворечья к Кремлю, до сих пор носит татарское название Балчуг. В Замоскворечье же находим улицу Ордынку, выходившую ранее к воротам Кремля. Через Замоскворечье шла прямо на юг Ордынская дорога. Здесь-то и удобнее всего было селиться «бесерменам», в первую очередь татарам.
Татарские купцы, вероятно, составляли лишь часть «бесерменов», приезжавших в Москву и живших здесь. Русские отличали бесермен от татар, как это можно видеть из одного летописного рассказа конца XVI в. К их числу причислялись бухарские и другие среднеазиатские купцы («тезики»), а также персы («кизылбаши»). Можно предполагать, что они селились и останавливались в особых городских кварталах, отдельно от татар, которые количественно преобладали над остальными бесерменами. По очень вероятному предположению В. К. Трутовского, слово Арбат произошло от арабского «рабад» (множественное «арбад»), что означает предместье, или по-русски посад.
НЕМЦЫ И ДРУГИЕ ИНОСТРАНЦЫ
Известно, что под немцами в России понимались не только выходцы из Германии, но и многие другие иностранцы, хотя в XIV -XV вв. еще различали немцев от фрягов. В позднейшей Москве царского периода немцы занимали среди иностранцев первое место по численности. Тем более замечательно, что в Москве великокняжеской мы не замечаем сколько-нибудь большого участия немцев в торговле и культурной жизни. В 1483 г. упоминается «…врач некый немчанин Онтон», бывший в большой чести у великого князя. Онтон лечил одного из татарских царевичей и уморил его смертным зельем «за посмех». Иван III велел выдать его сыну умершего, и татары зарезали его зимой под мостом, «как овцу», ножом.
Приток немцев в Москву начался в основном после присоединения Новгорода и Смоленска, а особенно со второй половины XVI в. До этого в Москве преобладали итальянцы, с конца XV в. в основном венецианцы.
Нет никакого сомнения, что в Москве жили и представители славянских народов. В XIV-XV вв. особенно заметны выходцы из православных балканских стран. Лазарь Сербии построил первые московские башенные часы, некий Борис (вероятно, болгарин) лил колокол, Пахомий Логофет писал жития, Киприан занимал митрополичий престол. Близость языка и веры помогала южным славянам легко оседать в Москве, но по тем же причинам их редко выделяли из общей массы московского населения. Это в еще большей мере относится к украинцам и белорусам, которых объединяли общим термином «литовские люди». Китайгородская церковь в Старых Панех напоминает нам об этих православных панах, приезжавших в Москву с Запада.
ГЛАВА VII. РОСТ И ЗАСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ТОПОГРАФИИ
Изучать топографию древних городов – значит заниматься самым увлекательным делом, какое может выбрать себе историк. Перед ним воссоздается план древнего города, расположение городских кварталов и улиц, местонахождение церквей и дворов городской знати, дворцов, площадей и торговых рядов, отдельных замечательных строений, а порой и просто ничем не замечательных, но тем самым еще более интересных для историка жилищ простых смертных. И тем не менее работ по топографии древних русских городов у нас чрезвычайно мало, а по истории Москвы не имеется вовсе, так как труд И. Е. Забелина в основном изучает только Кремль и его ближайшие окрестности, а вторая часть этого труда до сих пор не опубликована.
Историк наталкивается на почти непреодолимые трудности, когда по обрывочным заметкам летописей и актов ему приходится восстанавливать черты древнего города, обычно основательно стертые прошедшими столетиями. Это в особенности можно сказать об изучении топографии древней Москвы XIV-XV вв. Для того имеются свои основания. Ведь Москва тогда еще только начинала оформлять свою внешность большого города. Позднейшее величие города повлекло за собой его переустройство и коренным образом изменило его первоначальный облик. Московские здания великокняжеского периода казались мелкими и незначительными для последующего времени и были заменены более богатыми постройками. Поэтому сохранявшиеся памятники древней великокняжеской Москвы не только редки, но и относительно малозначительны по сравнению, например, с памятниками Новгорода и Пскова за то же время.
Особенно трудно исследовать топографию древнейшей Москвы XII- XIII столетий, так как летописи не сохранили нам ни одного топографического приурочивания, которое могло бы быть достоверно отнесено к XII- XIII вв. Вот почему, реконструируя картину древнего города в эти столетия, мы будем опираться главным образом на свидетельства позднейшего времени.
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ В XII-XIII ВВ.
Наиболее ранней частью исторической Москвы является Кремль. По мнению И. Е. Забелина, это «…первоначальное кремлевское поселение города Москвы» основалось здесь в незапамятные времена. Однако в явном противоречии с этим утверждением стоит то обстоятельство, что еще в XV в. москвичи твердо помнили о «боре», из деревьев которого была построена первая московская церковь Рождества Предтечи. Предание об этой церкви занесено в летопись под 1461 г. по случаю построения новой каменной церкви на месте деревянной. Говорят некоторые, замечает летописец, что то была первая церковь в Москве: на том месте бор был, и церковь та в том лесу («в том лесе») была срублена тогда, она была соборной церковью при Петре митрополите, и двор митрополичий был тут. В этом предании смешаны различные по времени события: построение церкви на месте древнего бора и значение ее в более позднее время при митрополите Петре в качестве собора. Однако ценным является существование в XV в. прочной устной традиции («глаголют же») о позднем возникновении кремлевского поселения и расположении на его месте древнего бора. На тот же бор указывают и старинные топографические названия кремлевских урочищ, от которых получили свои прозвища Боровицкая башня, церковь Спас на Бору. На возможность относительно позднего заселения кремлевского холма указывает, быть может, и то обстоятельство, что на его территории не были найдены предметы древнее XII в. Обнаруженные в Кремле при постройке Оружейной палаты и поблизости от упомянутой церкви Рождества Иоанна Предтечи женские украшения, по определению А. В. Арциховского, относятся к XII в. и «…принадлежат к классическому типу вятичских семилопастных».
Однако древнейшее свидетельство о построении «города», крепости, в Москве указывает именно на кремлевский холм, а не на какую-либо иную московскую местность. До сих пор это летописное указание было известно в несколько искаженной передаче Тверской летописи, которое допускало иные толкования. В печатном издании летописи читаем: «…того же лета (1156-го.- М. Т. ) князь великий Юрий Володимеричь заложи град Москву на устниже Неглины, выше рекы Аузы». Выражение «на устниже Неглинны» звучало несколько необычно, связывая место построения Кремля с течением Москвы ниже впадения в нее Неглинной. Между тем это выражение является результатом описки переписчика, так как в другом, до сих пор не опубликованном списке Тверской летописи находим: «…князь великий Юрий Володимерич заложи Москву на устий же Неглинны, выше реки Яузы». Таким образом, Тверская летопись подтверждает, что «город», или Кремль, был построен в 1156 г. на том же месте, где он стоял ранее, – «на устий же Неглинны».
С. Ф. Платонов вообще был склонен заподозревать достовернось показания Тверской летописи, видя в нем позднейшее припоминание, поскольку Юрий Долгорукий находился в 1156 г. на юге и не мог строить город на Москве-реке. С предположением об относительно позднем происхождении известия Тверской летописи следует согласиться и не настаивать на 1156 г. как на времени построения Кремля. Но если дата и не представляется нам вполне достоверной, то самый факт построения Кремля на устье Неглинной, выше реки Яузы, надо считать относительно достоверным, потому что топографические припоминания нередко сохраняют для нас черты отдаленной древности. Московское предание и в XVI-XVII вв. упорно указывало на Юрия Долгорукого как на строителя города Москвы. Поэтому показание Тверской летописи в основном можно считать отвечающим исторической действительности.
Как же в таком случае понимать слова Тверской летописи о постройке города «на устий же Неглинны»? Если не считать это выражение просто желанием автора летописной заметки сказать, что город был построен на том же месте, на котором стоял и позже, то надо говорить о двух событиях: о первом и втором построении города Юрием Долгоруким.
Территорию этого второго Кремля – безразлично, будем ли мы его считать постройкой Юрия Долгорукого или более позднего времени, – И. Е. Забелин вполне убедительно обрисовывает в следующих границах: «Со стороны речки Неглинной черта городских стен могла доходить до теперешних Троицких ворот, мимо которых в древнее время, вероятно, пролегала простая сельская дорога по Занеглименью в направлении к Смоленской и к Волоколамской или Волоцкой старым дорогам. С другой стороны, вниз по Москве-реке такая черта городских стен могла доходить до Тайницких ворот или несколько далее, а на горе включительно до Соборной площади, так что весь треугольник города, начиная от его вершины у Боровицких ворот, мог занимать пространство со всех трех сторон по 200 сажен, т. е. в окружности более 600 сажен». Кремль стал застраиваться зданиями уже при Данииле Александровиче. Кроме упомянутой ранее церкви Рождества Иоанна Предтечи в нем находим церковь Михаила Архангела, в которой был погребен сам Даниил. Позже в той же церкви был похоронен Юрий Данилович. Таким образом, Архангельский собор в Москве сделался княжеской усыпальницей до княжения Калиты.
МОСКОВСКИЙ ПОСАД XII-XIII вв.
Городские дворы не вмещались в тесные пределы города уже в XII -XIII вв., и вокруг «города» в Москве возник посад, вне городских укреплений. В существовании посада нас убеждает упорная традиция, по которой низина, находившаяся под кремлевским холмом и населенная с давней поры, носила характерное название Подол. В Подол входила вся территория между Москвой-рекой и кремлевским холмом, значительно более обширная в древнее время, чем в последующее, когда каменные стены разделили подольную часть города на две части. Но даже после сооружения стен при Дмитрии Донском на кремлевском Подоле жило немалое количество населения, здесь же стояли княжеские службы.
По предположению И. Е. Забелина, первоначальный Подол простирался до самого берега Москвы-реки. Здесь находилось береговое пристанище для речных судов. Таким образом, в районе Подола возник первоначальный московский посад, и картина города XIV- XV вв., обычно изображаемого в виде деревянного городка на вершине крутого холма, должна быть существенно изменена. Если вершина кремлевского холма была занята городком с земляным валом и деревянными стенами, то склоны его и низина под ним, обращенная к реке, были покрыты дворами горожан, так как самое название Подол ведет нас к домонгольскому времени, когда этим названием обозначали подгородную часть города. Итак, Москва встает перед нашими глазами в значительно ином виде, чем это порой рисуется в некоторых сочинениях, старающихся изобразить древнюю Москву даже не городом, а какой-то захудалой княжеской усадьбой.
Местность, окружающая Москву, и в более поздние времена отличалась лесистостью. Громадные сосновые и смешанные леса начинались от самого Кремля и тянулись на обширные пространства на север и восток. Однако не следует преувеличивать эту лесистость и представлять территорию Москвы XII-XIII вв. как сплошной и непроходимый бор. Летописи говорят о подмосковных селах, а устная традиция даже в XVII столетии помнила о «селах красных, хороших», которые разбросались по обеим сторонам реки еще при полулегендарном боярине Кучке.
На первых порах осваивалась наиболее удобная для поселения территория по долинам рек Москвы, Яузы и Неглинной. В непосредственной близости к Кремлю находилось село Семчинское или Семцинское, названное уже в духовной Ивана Калиты. К таким же ранним селам надо отнести село Напрудское к северу от Кремля и село Михайловское на Яузе, упомянутые в той же духовной.
Ко второй половине XIII в. восходят первые сведения о московских монастырях. Едва ли не самым ранним московским монастырем, о котором нам достоверно известно, был Даниловский монастырь, основанный на правом берегу Москвы-реки князем Даниилом Александровичем. Об этом монастыре и его основании Даниилом в XIV в. рассказывали «неции от древних старцев». Настоятели монастыря уже при Данииле носили сан архимандритов, что указывает на особое значение Данилова монастыря. Существование в Москве монастыря с архимандритом во главе отчасти свидетельствует и о возросшем значении Москвы как города, стремившегося выделиться из общего уровня и по своей церковной иерархии. Ко временам Даниила можно отнести и другой монастырский центр – Крутицкий монастырь под Москвой, если верить старому преданию, впрочем не очень надежному. Во всяком случае, если храм на Крутицах и был основан уже в XIII в., то остальные подробности о Крутицах, сообщаемые в сказании XVII в., лишь плод московского баснословия этого столетия.
В конце XIII в. появляется Богоявленский монастырь в Китай-городе. По монастырской записи, которую нет никаких оснований оспаривать, он был основан в 1296 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕМЛЯ ПРИ КАЛИТЕ
Первая половина XIV в., преимущественно время Ивана Калиты, отмечена первым переустройством Москвы как города, оформлением ее внешнего вида в качестве великокняжеской резиденции. Память о строительных работах Калиты надолго осталась у потомства. «Постави князь великий Иван Данилович Калита град древян Москву, тако же и посады в ней украсив, и слободы, и всем утверди», – пишет о деятельности Калиты поздний московский летописец. На основании тех же преданий Герберштейн, посетивший Москву в начале XVI в., также говорит, что Кремль до княжения Калиты был мал и защищен только бревенчатой оградой. Калита расширил и укрепил его по совету митрополита Петра.
Летописные свидетельства показывают, что информация Герберштейна о строительстве Кремля при Калите была получена из хорошего источника. Так, летопись сообщает о пожаре города Кремника 3 мая 1331 г.: «…бысть пожар на Москве и погоре город Кремник». Новый пожар случился в Москве 3 июня 1337 г., причем нет никаких указаний, что Кремник опять сгорел. Через два года после второго пожара началась постройка нового города, особо отмеченная летописью: «На ту же зиму (1339 г.- М. Т. ) месяца ноября в 25 день, на память святого мученика Климента, замыслиша, заложиша рубити город Москву, а кончаша тое зимы на весну в великое говеино». Построение нового Кремля стояло в явной связи с московским пожаром 1337 г., оставившим о себе печальную память у современников. В этот пожар «Москва вся погоре». Бедствие довершил страшный ливень, потопивший имущество, спрятанное в погребах и вынесенное от огня на площадь.
Кремль 1339 г. был построен из дуба – самого прочного лесного материала. Остатки дубовых стен Ивана Калиты найдены при постройке названного ранее Нового дворца. Они лежат в трех с лишним саженях от современной кремлевской стены, обращенной к Неглинной. Дубовые бревна толщиною почти в аршин сохранились на протяжении 22 аршин, полуистлев от долгого лежания в земле.
В летописях ничего не сообщается о размерах нового Кремля, но старинное предание, записанное Герберштейном, как мы видим, определенно указывает, что территория его при Калите сильно расширилась. Граница Кремля времен Калиты на востоке с замечательной проницательностью устанавливаются И. Е. Забелиным. Он обратил внимание на то, что при обновлении Малого Николаевского дворца в Кремле под слоями жилого мусора материк оказывался на глубине от 9 до 13 аршин. Такое явление обнаруживалось на дворе дворца в определенном направлении. И. Е. Забелин считает, что это указывает на существование древнего рва, который тянулся с горы на Подол. В XVII в. в этом направлении пролегала особая улица, а одна из находившихся здесь церквей называлась Рождеством Богородицы, «что на Трубе», потому что стояла на трубе для стока воды. Трубу проложили на месте древнего рва.
При Калите впервые упоминается название внутренней московской крепости, или замка, Кремлем. Впрочем, первоначальное название этой крепости, известное нам по летописям, было не Кремль, а Кремник. Сделано было несколько попыток объяснить это название, вплоть до производства его от греческого «кремнос», что обозначает крутизну или крутую гору под оврагом или берегом. Такое несколько неожиданное словопроизводство находит сторонников и в наше время, но, в сущности, является простым созвучием. Непонятно, по какой причине греческое слово, обозначавшее крутизну, заимствовано москвичами для названия городских укреплений, а самое главное – корень «крем» или «кром» употребляется на Руси для обозначения не одних московских укреплений. Так, словом «кром» с давнего времени называют внутреннюю псковскую крепость, очень напоминающую по своему расположению на высоком мысу, при впадении двух рек, Московский Кремль. Кромом назывался также в конце XV в. замок Великих Лук. Псковские памятники знают и термин «кримский тать» для обозначения вора, обокравшего Кром. Добавим к этому, что сам термин «кремник» попал в нашу летопись по аналогии с «кремником» в Твери, следовательно, также не является специфическим московским термином.
По предположению И. Е. Забелина, кремлевская стена в это время на северозападной стороне, обращенной к Неглинной, доходила до грота в Александровском саду, а на южной – до упомянутой выше трубы поблизости от церкви Константина и Елены. Видимыми координатами восточной стены Кремля времен Калиты являются старинные московские улицы Никитская и Ордынка, которая теперь не имеет выхода на север и обрывается напротив Кремля, на другой стороне реки. Ранее это были дороги: Никитская выводила к Волоколамску, Ордынка вела на юг, в сторону Золотой Орды.
К этому замечательному очерку местоположения Кремля Калиты, впрочем, можно сделать некоторое добавление. И. Е. Забелин считает, что обе дороги выходили к древнейшему торговому пристанищу на Подоле, между тем, как нам кажется, речь должна идти о другом – о соединении этих дорог на торговой площади перед Кремлем. Дело в том, что первоначальная торговая площадь явно не совпадала с позднейшей Красной площадью и граничившими с ней торговыми рядами. В этом нас убеждает необычное расположение церкви Пятницы «на рву», находившейся в непосредственной близости к кремлевским Фроловским воротам. Церкви во имя Пятницы, как нам удалось установить в другой работе, обычно сооружались на торговой площади, поблизости от главных въездных ворот.
Такое расположение торговых площадей с неизменной на них церковью Пятницы встречаем в ряде городов, соседивших с Москвой, например, в Дмитрове и Коломне. В самой Москве две другие пятницкие церкви находим в Китай-городе «…что против Нового Гостиного двора», и за пределами Китай-города., в Охотном ряду. Обе названные церкви были поставлены на торговых площадях, постепенно удалявшихся от городского центра, в непосредственной близости к городским воротам (первая – к кремлевским, вторая – к Китайгородским). Существование церкви Пятницы поблизости от кремлевских стен легче всего объяснить тем, что некогда она находилась на торговой площади, вне стен городка; после же сооружения новых кремлевских стен, разрезавших древнюю торговую площадь пополам, церковь осталась, а торг был отнесен далее на восток за пределы вновь созданных стен.
ПЕРВЫЕ КАМЕННЫЕ ЗДАНИЯ В МОСКВЕ
При Иване Калите в Москве появились каменные здания, на первых порах церкви. Первым московским каменным строением считается собор Успения Богоматери, заложенный 4 августа 1326 г. Летописи связывают построение собора с утверждением в Москве митрополичьего стола и личным желанием митрополита Петра. Собор строился целый год и был освящен 15 августа 1327 г. (т. е. на Успеньев день). Наименование собора Успенским говорит о стремлении великого князя и митрополита иметь соборный храм по образцу Успенского собора во Владимире. Дело в том, что наименование церквей в Древней Руси было явлением далеко не случайным и подчинялось определенным правилам. Так в XI-XII вв. соборные храмы больших городов, являвшихся одновременно резиденциями епископов, наименовались по византийскому образцу в честь св. Софии (премудрости божией). Это, так сказать, древнейший слой церковных воименований, отразившийся в появлении Софийских соборов в главнейших центрах Руси XI в.- в Киеве, Полоцке и Новгороде. В XII в. вместо Софийских появляются Успенские соборы (Смоленск, Владимир-Залесский, Владимир-Волынский, Суздаль, Ростов, Галич). Однако уже с XI в. существует другая традиция, по которой соборные церкви называются в честь Спаса. Традиция таких воименований начинается с черниговского собора Спаса Преображения, построенного в первой половине XI в. Она находит отражение на севере в XII-XIII вв., когда появляются соборы во имя Спаса в городах: Тверь, Переславль-Залесский, Нижний Новгород, Галич-Мерский, Торжок, Ярославль. Как видим, определенные церковные традиции связывались с теми или иными политическими центрами.
Между тем имеются определенные указания на то, что до построения церкви Успения московским собором была церковь Спаса, как и в Твери. Иными словами, и по названию своей крепости – «кремник», – и по воименованию соборного храма в честь Спаса Москва имела сходство с соседней Тверью. Трудно только сказать, чем объясняется это сходство – сознательным ли подражанием московских князей тверским порядкам, или общностью традиций Москвы и Твери. Построение Успенского собора обозначало резкий разрыв с прежней традицией и показывало претензию московских князей на особое положение Москвы среди русских городов, возвращение к традициям старых стольных городов Северо-Восточной Руси – Владимира, Суздаля, Ростова. Строительство каменных храмов продолжалось при Калите в быстрых по тому времени темпах. В 1329 г. выстроили вторую каменную московскую церковь Иоанна Лествичника, оконченную в три месяца. Осенью того же года в течение двух месяцев воздвигли третью каменную церковь – Поклонения веригам Петра. И. Е. Забелин связывает построение этих церквей с политическими событиями того времени, считая, что обе церкви были обетными, построенными в память удачного окончания похода против Твери в 1327 г. и Пскова в 1329 г. Такая возможность, конечно, не исключена, но построение церквей может быть объяснено и по-иному. Иоанн Лествичник был святым самого Калиты, на печатях которого изображен святой в рубище с книгой в руках, что соответствует Иоанну Лествичнику как автору Лествицы, а вовсе не Иоанну Предтече, изображение которого не имеет книги. Кроме того, старший сын Калиты (Иван) родился 30 марта на память Иоанна Лествичника. Вериги Петра напоминают нам о Петре-митрополите. Следовательно, перед нами обычное стремление строить храмы в честь одноименных князей и митрополитов, весьма распространенное на Руси.
Каменное строительство не прекратилось после создания трех вышеназванных храмов. Новая каменная церковь Спаса (Спас на Бору) была построена в 1330 г., пятая каменная церковь Михайла Архангела – в 1333 г. Последняя заменила собой деревянный храм, служивший и ранее княжеской усыпальницей. Что касается церкви Спаса, то она также имела специальное назначение княжеского монастыря. Значение его как одного из центров московской образованности почему-то осталось незамеченным историками Москвы, хотя летопись особо отмечает заботы Ивана Калиты о процветании Спасской обители, снабженной иконами, книгами и сосудами за счет княжеской казны. Обращает на себя внимание замечание летописи, что Спасский монастырь получил от Калиты «…льготу многу и заборонь велику творяше им, и еже не обидимым быти никим же». В этих словах скрывается прямое указание на пожалование Спасскому монастырю иммунитетных прав, по образцу которых впоследствии получали льготы и другие московские монастыри.
Каменное строительство при Калите развернулось в сравнительно короткий промежуток времени, на протяжении девяти лет (1326 – 1333), после чего наступает длительный перерыв. Это обстоятельство, по-видимому, указывает на то, что строителями московских церквей были пришлые мастера и что собственная московская архитектурная школа возникла значительно позднее, во второй половине XIV в., иначе трудно объяснить своеобразную «сезонность» каменного строительства в Москве при Иване Калите. Такая особенность каменного строительства должна быть учтена исследователями русского искусства при их суждении о характере ранней московской архитектуры. Сделаны были попытки реконструкции плана и внешнего вида Успенского собора, но их нельзя считать удачными. Наиболее ценно сближение архитектуры собора Калиты с некоторыми псковскими памятниками, так как участие псковских мастеров в московском каменном строительстве весьма вероятно, если только строителями московских храмов не были тверичи или новгородцы. Во всяком случае, храмы Калиты представляли собой постройки довольно небольшие и не очень прочные. Через 150 лет, в конце XV в., все они были перестроены или сломаны. В 1472 г. своды Успенского собора из-за опасности их падения приходилось подпирать толстыми бревнами. О размерах первого Успенского собора можно судить по летописному свидетельству, что новый собор, заложенный до приезда Аристотеля Фиоравенти, строился «круг тое церкви», т. е. вокруг стен прежнего собора Калиты. Быстро обветшал и Архангельский собор, разобранный в начале XVI в. за ветхостью. Судя по одному летописному известию, он имел большие размеры, чем Успенский собор.
При всей неказистости и непрочности первых московских сооружений из камня появление их должно считаться крупной вехой в истории Москвы, которая сразу украсилась пятью каменными зданиями. Каменное строительство в Москве знаменовало возрождение искусства русского народа в его центральной территории. До того лишь Тверь имела каменные постройки, не говоря о Псковской и Новгородской землях, где архитектурная традиция не знала столь долгого и насильственного перерыва.
Возобновление каменного строительства в Москве тесно связано с возрождением искусства монументальных росписей в Северо-Восточной Руси. В 1344 г. оба московских собора (Успенский и Архангельский) были расписаны греческими и русскими мастерами. Летописец рассказывает, что Успенский собор расписывали греки, митрополичьи писцы: «…да которого лета начали расписывать, того же лета и кончили. А святого Михаила подписывали русские писцы, князя великого Семена Ивановича. Старейшинами и начальниками у них были Захарий, Иосиф, Николай и прочая дружина их». Русские писцы за одно лето не могли расписать и половины этой церкви из-за ее величины. На следующий год была расписана церковь Спаса на Бору, «…а мастер старейшина иконником Гойтан». Эта церковь расписывалась на средства первой жены Симеона Гордого, литовской княжны Айгусты, которую в Москве крестили с именем Анастасии. Расписана была фресками и церковь Иоанна Лествичника, а все работы по росписи трех церквей (собора Михаила Архангела, Спаса на Бору и Иоанна Лествичника) закончились к 1346 г.
Роспись московских церквей, как мы видим, тоже носила своеобразный характер, как и постройка каменных зданий. Четыре московских храма расписывались в течение трех лет, по крайней мере, тремя дружинами мастеров. Здесь мы опять наблюдаем ту особенность московского искусства времен Калиты и его ближайших преемников, которая отмечалась нами выше, – его «сезонность» или чрезвычайность. Греческие и русские мастера были одинаково пришлыми в Москве, видимо еще не создавшей своей художественной школы. Однако в кратких летописных заметках о росписи московских церквей уже чувствуется рука современника и его горячее участие к делу украшения родного города. Летописец тщательно отмечает имена русских живописцев и лишь в общих чертах говорит о греческих художниках. В этом замалчивании греческих имен нет ничего враждебного по отношению к грекам, только известное равнодушие к ним. Зато заметно повышенное внимание к русским художникам, неприкрытая радость при виде своих отечественных мастеров, столь понятная для русского человека, жившего в эпоху опустошительных татарских набегов.
Почти все церкви, построенные при Калите, группировались в одном месте – на площади посреди Кремля,- создавая определенный архитектурный ансамбль. Одна церковь Спаса на Бору стояла несколько в отдалении. В непосредственной близости от соборов располагались постройки княжеского дворца, занимавшие, надо предполагать, в основном ту же площадь, но несколько меньшую, чем позднее. После сооружения Успенского собора должен был передвинуться поближе к новой кафедральной церкви и митрополичий двор, на то место, где его находим позже. Нет никакого сомнения, что Кремль Калиты был густо застроен жилыми постройками, хотя и остается неясным, входил ли уже Подол в кремлевскую территорию или нет.
РАСШИРЕНИЕ ПОСАДА
При Калите произошло и значительное расширение городского посада. Об этом можно судить по сведениям о московских пожарах и количестве сгоревших церквей. В первый пожар (1331 г.) выгорел «город» Кремник. Во второй пожар (1337 г.) в Москве «сгорело 18 церквей», причем выгорела «вся Москва». Эту цифру следует сопоставить с известием о пожаре Великого Новгорода в 1340 г., когда в нем сгорело 74 церкви. Как ни трудно сравнивать величину обоих городов по количеству сгоревших церквей, тем не менее обе цифры дают некоторое понятие и о количестве населения в названных городах.. Новгород, несомненно, был многолюднее и богаче Москвы времен Калиты, но и Москва сильно расширилась. В пожар 1343 г. сгорело уже 28 церквей. В их число входят многие из тех церквей, которые будут упомянуты в летописях несколько позже. В основном посад расширялся в сторону позднейшего Китай-города. Наиболее древней частью в этом районе было Зарядье, где проходила Великая улица. Названный район по губной судебной грамоте XV в. был выделен в особый судебный округ, хотя по своим размерам он гораздо меньше соседнего округа от Варьской (Варварской) улицы до Неглинной. Объяснение подобной неравномерности в распределении судебных округов заключается в том, что район Зарядья, как далее увидим, был самым древним на посаде.
КАМЕННЫЙ КРЕМЛЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
Правление Дмитрия Донского и его ближайшего преемника Василия Дмитриевича ознаменовано для Москвы быстрым расширением посада, по сравнению с территорией которого площадь Кремля начинает казаться незначительной. Рост позднейшей территории Китай-города и даже Белого города в основном происходил в это время.
При Дмитрии Донском произошло новое расширение Кремля, связанное с сооружением каменных стен. Создание каменного Кремля в Москве было большим событием для всей Северо-Восточной Руси. До того только Псковская и Новгородская земли знали каменные крепости, да и то в ограниченном количестве. Почти одновременно с Москвой предприняли попытку построить каменный кремль нижегородские князья. Однако летописная заметка, сообщающая о Нижегородском кремле, оставляет впечатление, что он был только заложен, но не окончен. Во всяком случае, в известном списке русских городов, помещенном во многих летописях, из числа городов Залесской земли лишь Москва обозначена пометкой: «Москва город камен». В богатой Твери так и не удосужились создать каменные укрепления и довольствовались деревянными стенами, обмазанными глиной. Тут необыкновенно ярко сказалось различие между политикой Москвы и Твери. Тверские князья рано воздвигли каменный собор и украсили его мраморным полом, заказали и сделали для него дорогие медные двери, но удовлетворялись деревянными городскими стенами и не раз за это жестоко платились. В Москве поступили иначе. Московские соборы XIV- XV столетий не привлекали внимание современников своими редкостями, недаром же создания Калиты так быстро обветшали, зато в Москве всегда пеклись о прочности городских укреплений и опередили другие города в постройке каменных стен.
Летописная заметка о построении каменного Кремля не оставляет сомнения, что этому делу придавали в Москве исключительное значение. Вот что читаем в «Рогожском летописце», сохранившем лучше других древние и исправные чтения: «Toe же зимы (1367 г. – М. Т. ) князь великый Димитрей Иванович, погадав с братом своим с князем с Володимером Андреевичем и с всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe же зимы повезоша камение к городу». Сооружение каменного Кремля требовало крупных затрат, поэтому понадобилось предварительное согласие князя-совладельца Владимира Андреевича и старейших бояр, одним словом, того боярского совета, который впоследствии стал известен под названием боярской думы. Обращает на себя внимание и своеобразная, можно сказать, задорная конструкция фразы: «…да еже умыслиша, то и сотвориша». Летописец точно хотел подчеркнуть, что у московских князей намерение не расходится с делом.
Первый московский каменный Кремль, как показывают его немногие остатки, был сложен из белого камня, а не кирпича, который почти не употреблялся в это время в Северо-Восточной Руси. И. Е. Забелин предполагает, что материал для него добыт из каменоломен села Мячкова при впадении Пахры в Москву-реку. Действительно, до последнего времени в Мячкове стояла церковь, сложенная из белого камня. Сооружение ее историки искусства относят к XVIII в., что едва ли правильно, так как при входах в нее сохранились древние порталы, значительно более раннего периода. Тщательное сравнение культуры камней Московского Кремля, построенного при Дмитрии Донском, с мячковским белым камнем бесповоротно решило бы вопрос, откуда поступал в Москву строительный материал. Пока же отметим только, что подвоз мячковского камня в столицу обеспечивался Москвой-рекой. Летом камень везли на судах, зимой его легко было доставлять на санях по замерзшему руслу. Каменные стены, конечно, строились длительное время и не были еще закончены даже через 15 лет. В дни страшного Тохтамышева нашествия 1382 г. стены Кремля оказались низкими, по-видимому, они так и остались во многих местах до конца недоделанными. Поэтому Контарини утверждает, что «…город Москва расположен на небольшом холме, и все строения в нем, не исключая и самой крепости, деревянные». Ошибка итальянского путешественника конца XV в. понятна, так как ему в глаза бросилось прежде всего обилие деревянных деталей и пристроек к каменным стенам, которые как бы скрывались под деревом. Во время пожаров такие стены выгорали, как это случилось в большой московский пожар 1445 г., когда «…ни единому древеси на граде остатися». Стены завершались «заборолами». И. Е. Забелин понимает под ними каменные зубцы, промежутки между которыми заставлялись (забивались) толстыми досками в виде забора для безопасности от стрел осаждающих. Возможно, это был обычный деревянный забор древнерусских городов со скважнями. Однако и такие несовершенные каменные стены были явлением выдающимся и хорошей защитой против нападений татар и литовцев. Москвичи считали себя в безопасности «…селик тверд град имуще, иже суть стены каменны и врата железны». Укрепления дополнялись рвом, прокопанным от Неглинной до Москвы-реки. Упоминается также о каком-то вале – «спе» перед городскими стенами. Возможно, такой вал существовал в виде дополнительного укрепления. Может быть, дело надо понимать так, что самые каменные стены стояли на валу.
КРЕМЛЬ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ПРЕЕМНИКАХ
Блестящее княжение Дмитрия Донского нашло свое внешнее отражение не только в постройке Кремля, но и в значительном усилении каменного строительства в городе. При нем в Москве был основан Чудов монастырь, сделавшийся особым внутренним митрополичьим монастырем. Старинные предания рассказывали, что на месте Чудова монастыря ранее находился царев двор, т. е. двор ордынских послов, который царица Тайдула отдала во владение митрополиту Алексею в награду за излечение ее от глазной болезни. По мнению И. Е. Забелина, это должно было произойти примерно в 1358 г., который следует считать годом основания Чудова монастыря. Во всяком случае, он возник не позже 1365 г., когда упоминается о построении в нем первой каменной церкви во имя чуда Михаила Архангела в Хонех. Судя по указанию летописи, что «…единого лета и почата и кончана и священа бысть», можно заключить, что церковь была небольших размеров.
В конце XIV в. возник другой кремлевский монастырь – Вознесенский, основанный Евдокией Дмитриевной, женой Дмитрия Донского. Первым упоминанием об этом монастыре считают известие 1386 г.: «…преставися раб божий Семен Яма и положен на Москве в манастыри святого Вознесения». Это известие, впрочем, подвергается некоторому сомнению, так как в других списках вместо Св. Вознесения читается «святаго Афонасия». Последнее известие представляется более достоверным, поскольку Вознесенский монастырь был с самого начала девичьим. В нем хоронили великих княгинь и боярынь. Вознесенский монастырь стал усыпальницей великих княгинь. Значение его подчеркивалось сооружением в нем каменной церкви, заложенной в 1407 г. Сообщалось, что ее строили «внутри города», т. е. в Кремле. Есть, впрочем, указание, что собор Вознесенского монастыря так и остался недостроенным в течение полувека, о чем нам придется говорить дальше. Имеются указания и на существование в Кремле конца XIV – первой половины XV в. некоторых других каменных храмов. Из них выделялись церкви Введения Богородицы на подворье Симоновского монастыря у Никольских ворот и Богоявления на Троицком дворе.
В целом надо признать, что Московский Кремль до его переустройства при Иване III заметно выделялся своими каменными стенами и церквами среди других русских городов, уступая по своей обстройке только Пскову и Новгороду и далеко обогнав соперничавшие с Москвой города Верхнего Поволжья и Оки с Тверью и Рязанью во главе. В то же время Москва явно отставала в этом отношении от многих западноевропейских городов, что вполне объясняется тем катастрофическим обеднением, которое испытала Россия в страшные годы татарского ига.
Княжение Дмитрия Донского явилось новой эпохой в истории Москвы, и в частности Кремля, новым этапом в истории нашего города. В XV в. сооружение каменных церквей в Кремле велось сравнительно редко, а самые постройки малозначительны, что связано с тяжелыми годами внутренних распрей, заполняющих длительный период в середине XV в., а также с опустошительными татарскими набегами. После Едигеева нашествия (1409 г.) каменное строительство стало в Москве относительной редкостью. И. Е. Забелин, отмечая небольшое развитие каменного зодчества в Москве до Ивана III, замечает: «Может быть, встретятся и еще свидетельства о таких постройках, но и они не послужат опровержением той истины, что город целое столетие не обладал достаточным богатством для своего устройства». Об общем количестве каменных и деревянных церквей в Москве дает понятие известие о пожаре 1476 г. В Кремле «обгорело» 10 каменных церквей и сгорело 12 деревянных.
Во второй половине XV в. начинается оживление в области архитектуры и искусства. Москва создает свои кадры художников, трудившихся не только в ней самой, но и за ее пределами. Таким был Василий Дмитриевич Ермолин, как мы видели, работавший над каменной резьбой и перестройкой зданий в Москве и в других городах.
Тем не менее общий облик Кремля до его переустройства Иваном III мало изменился и украсился по сравнению с временем Дмитрия Донского. Каменные кремлевские стены так и остались недостроенными, и во время набегов на Москву татары приступали к Кремлю там, где не было каменных стен. Внутри Кремля произошло довольно мало изменений. Великокняжеский дворец, видимо, остался по-прежнему деревянным.
Впрочем, несомненным новым веянием явилось стремление строить каменные здания – «палаты» – гражданского назначения. Инициатива в этой области принадлежала духовенству. В 1450 г. митрополит Иона заложил на своем дворе каменную палату, а при ней домовую церковь Положения Ризы Богородицы. Его примеру последовали монахи Симонова монастыря, воздвигнувшие на своем подворье в Кремле церковь Введения с палатою (1458 г.). Назначение палат, вероятно, заключалось в том, что они служили трапезными для торжественных поминальных обедов («кормов») и местом хранения книг и казны, надежным от пожаров. Жилые каменные строения, как видим, возникают уже при Василии Темном, задолго до появления итальянских мастеров. Кроме великокняжеского дворца и митрополичьего двора в Кремле стояли дворы удельных князей и бояр, а также подворья епископов и монастырей.
Значительную часть Кремля занимал великокняжеский двор, около которого была заложена церковь Спаса Преображения, прочно удержавшая за собой прозвище «на Бору». Эта церковь, впоследствии стоявшая во внутреннем дворе Кремлевского Большого дворца, при Иване Калите находилась поблизости от великокняжеского дворца. Недалеко от дворца помещались великокняжеские хозяйственные постройки – житный двор и конюшни, существовавшие, по-видимому, на старых местах и в XVII в., так как житницы с хлебными запасами, заготовленными на случай осады, имелись в каждом укрепленном замке древней России.
Великокняжеский дворец был деревянным, как и все гражданские постройки древней Москвы. Поэтому он и горел наравне с другими постройками, как свеча, во время страшных московских пожаров. Внешний вид дворца и его внутреннее расположение не подвергаются какому-либо восстановлению – так скудны наши сведения о великокняжеских палатах XIV-XV вв. Можно восстановить лишь несколько небольших черточек. Во дворце у княгини был «златоверхий» терем, обращенный лицом к берегу и потому называемый «набережным». Под его южным окном сидела великая княгиня Евдокия и провожала взором русское войско и своего мужа Дмитрия, уходившего в поход против Мамая. Из окон терема было видно Замоскворечье и дорогу на село Котлы, откуда начиналась дорога в Орду. Златоверхий набережный терем привлекал к себе взоры москвичей необычной красотой и убранством. Поэтому в сказаниях о Мамаевом побоище отыщем об этом тереме новые подробности. Княгиня сидела на «…урундуце под стекольчаты окны». Рундуком в Московской Руси называлось крыльцо, обычно украшенное вычурными колонками-балясинами. Такое крыльцо иногда было двухэтажным в виде постройки, несколько выдающейся из общей массы здания. Нам нет никакой нужды отбрасывать как ненужную деталь это упоминание о великокняжеском дворце. Княгиня сидела у стеклянного окна на втором этаже дворца в выступе здания, образованном подобным рундуком, обозначавшим парадный ход во дворец.
Набережная палата и набережные сени в XV в. имели немалое значение как место для дворцовых приемов и встреч. Терем был расписан фресками рукою самого Феофана Гречина («…терем у князя великого незнаемою подписью и страннолепно подписаны»).
Несомненно выдающимся строением был митрополичий двор. Кроме палаты митрополита. Ионы на нем находим и другую палату, выстроенную митрополитом Геронтием. Во двор вели каменные ворота («…кирпичем кладены ожига-ным»), воздвигнутые тем же митрополитом одновременно с палатой в 1478 г.
Кремлевский холм окружала стена, спускавшаяся вниз к Москве-реке и тянувшаяся вдоль берега у подошвы холма. Следовательно, в кольце кремлевских укреплений находились, собственно, две части – нагорная и низменная, вторая называлась по-прежнему Подолом. Своеобразная система укреплений, при которой крепостная стена охватывала не только нагорную, но и низменную часть города, должна была обеспечить возможность невозбранно пользоваться речной водой во время осады. В особенности это было важно для городов с постоянным посадским населением. Кроме того, Подол, связанный с рекой, был обычно относительно густо заселен. Такую же систему крепостных стен кроме Москвы находим в Нижнем Новгороде.
И. Е. Забелин предполагает, что скат кремлевской горы был первоначально значительно более пологим, чем теперь, что позволяло располагаться по нему деревянным постройкам старой Москвы. Окраина горы называлась Зарубом, потому что «…была утверждена частию на сваях, частию на избицах, небольших деревянных срубах, укреплявших скат горы». Поэтому дворы у самого обрыва стояли на насыпной земле из жилого мусора. И. Е. Забелин думает, что это делалось из-за тесноты кремлевской площади и желания ее расширить. «Заруб и взруб,- пишет И. Е. Забелин,- означали особое устройство береговой крутизны, посредством насыпной земли, огражденной бревенчатою постройкою для увеличения пространства существовавшей нагорной площади». Но нельзя не отметить и того, что древнее слово «зарубати» обозначало устройство преграды для неприятеля, а «заруб», собственно, обозначал тюрьму.
Пространство нагорной части Кремля и Подола было неодинаковым. Подол занимал гораздо меньшую площадь, чем холм, на котором располагались важнейшие кремлевские постройки.
Кроме великокняжеского дворца, митрополичьего двора, соборов, церквей и монастырей на холме стояли дворы удельных князей и бояр. В непосредственной близости к великокняжескому дворцу находился дворец («двор») князя Андрея Ивановича, младшего сына Калиты, перешедший потом во владение к его сыну – серпуховскому князю Владимиру Андреевичу Храброму. В духовной Владимира Андреевича ему давалось характерное название «двора московского большого» в отличие от других, меньших дворов, принадлежавших тому же князю и названных в той же духовной. Из большой семьи Владимира остался в живых один Ярослав, передавший большой двор своему сыну Василию, умершему в заточении в Угличе. По отчеству этого последнего владельца место, где находился двор Ярослава, было еще долго известно под именем Ярославичева места. В летописях и документах упоминаются и другие дворы удельных князей, занимавшие иногда значительную площадь. Кроме них нам известны боярские дворы, почему-либо отмеченные в сохранившихся источниках.
Скромное название «двор» не должно приводить нас к мысли о скромных размерах московских княжеских и боярских построек. Чаще всего подобный двор состоял из ряда жилых строений, к которым примыкали служебные сооружения и сад. Некоторые дворы служили в случае надобности местом для заточения государственных преступников. Это указывает на их особое устройство, создававшее из подобного двора своего рода укрепленный замок. Посреди княжеских, боярских и монастырских дворов («подворий») дворы остальных горожан казались, конечно, более бедными. В XV в. городские дворы стояли в Кремле еще в значительном количестве, но число их явно имело тенденцию к уменьшению, так как их постепенно вытесняли дворы высшей московской знати. Стоимость земли в Кремле постоянно повышалась, о чем можно судить по настойчивым перечислениям дворовых кремлевских мест в духовных великих и удельных князей.
По сравнению с нагорной частью Кремля, Подол был намного беднее выдающимися постройками. Здесь помещались служебные строения, принадлежавшие князьям и боярам, дворы которых находились на холме. Подольные дворы принадлежали, например, великой княгине Софье Витовтовне. Их поставили под горою («…что стоят под моим двором») в непосредственной близости к ее нагорному дворцу. Здесь же располагался «подольный садец», особо отмеченный митрополитом Алексеем в его духовной. На Подоле стояли и некоторые боярские дворы. В конце XV в. наиболее выдающимся из них был двор князя Федора Давыдовича Пестрого Стародубского. Здесь же находим двор коломенского епископа, а также подворье Угрешского монастыря. В XV в., по мере того, как расширялся посад, а Кремль все более получал значение аристократического квартала, Подол заметно беднел.
Некоторые бояре обладали в Кремле значительной земельной площадью и еще более ее расширяли, покупая соседние дворы. Так, князья Патрикеевы владели многими дворовыми «местами» внутри Кремля, им принадлежали прежние «места» Петровых, Палицких, Ждановых, Сидоровых. Обычно такая боярская или княжеская усадьба обрастала деловыми строениями вроде «житничного двора», построенного в Кремле великой княгиней Софьей Витовтовной. В документах часто упоминаются «хоромы», поставленные тем или иным владельцем, указывается на относительное богатство домовых построек в отличие от изб простых людей.
Основной внутренней артерией Кремля была Большая улица. Древнее ее направление вело от Боровицких ворот к Фроловским. От площади внутри Кремля отходила другая улица – к Никольским воротам. Она носила название Никольской, но с какого времени – неизвестно. Проезжая улица протягивалась и по Подолу, возле кремлевских стен. В начале XVII в. она начиналась от Кирилловского подворья и следовала дальше к Свибловым воротам. В древнее время эта улица должна была пересекать весь Подол от одного его конца до другого, выходя к Константино-Еленинским воротам Кремля, которые связывали Кремль с продолжением Подола на посаде.
Большая кремлевская площадь, примыкавшая к соборам, издавна была местом многолюдных собраний. Здесь собирались московские полки перед выходом в поход, здесь же «кликали» распоряжения властей и судебные запреты. На площади стояла колокольница, имевшая в Москве особое значение. На ней висел «городный часовой» колокол, отбивавший для горожан часы. Кроме того, ему придавали назначение – начинать колокольный трезвон в городе, как видно из сообщения о радостном колокольном трезвоне в Москве по случаю взятия Казани в 1486 г. На этой колокольнице долгое время висел вечевой («вечный») колокол Великого Новгорода, вывезенный в Москву в 1478 г.
МОСКОВСКИЙ ПОСАД
Постройки горожан уже в первой половине XIV в. не вмещались в пределы Кремля. Они тесно лепились тотчас же за его стенами, что вызывало необходимость их уничтожать при первой же опасности «примета деля», чтобы враги не могли подобраться к самым кремлевским стенам под прикрытием городских построек. Неукрепленное поселение за пределами Кремля, как и в других русских городах, называлось посадом. Под московским посадом понималась в основном территория, входившая впоследствии в Китай-город, Замоскворечье и так называемое Занеглименье, т. е. западная часть города, расположенная за Неглинной; иногда встречается и множественное обозначение московских предместий – «посады».
Наиболее важная и населенная часть Москвы в XIV-XVI вв. находилась к востоку от Кремля. Это была в первую очередь территория позднейшего Китай-города; к ней примыкал обширный район, лежавший между Яузой и Неглинной. Место позднейшего Китай-города иногда именовалось Великим посадом. Заречье – это позднейшее Замоскворечье, что с ясностью вытекает из рассказа о пожаре 1480 г., когда пламя в Кремле увидали из Заречья и стали кричать («…град горит, а в граде не ведал никто», потому что пожар случился ночью). Загородьем же назывались, кажется, те части города, которые были расположены за Неглинной. В конце XV в. их уже определенно называли Занеглименьем. Впрочем, названия отдельных частей города в рассматриваемое время еще не установились окончательно, а впоследствии они были стерты общепринятыми названиями, связанными с укреплениями: Белый город и Земляной город.
Следовательно, в XIV-XV вв. в Москве можно установить четыре части города:
1) Кремль, или собственно «город»;
2) посад, или Великий посад, на территории современного Китай-города;
3) Заречье – за Москвой-рекой;
4) Занеглименье – к северо-западу от Неглинной, называемое иногда Загородьем.
ВЕЛИКИЙ ПОСАД
Наиболее населенной частью города после Кремля был Великий посад. Территория его уменьшалась на западной стороне по мере расширения Кремля и расширялась к востоку и северо-востоку. Если взглянуть на современный план Китай-города, то мы столкнемся с любопытной картиной. Две улицы Китай-города – Ильинка и Никольская – постепенно сходятся к одному центру, но место их соединения находится не у восточной кремлевской стены, где эти улицы кончаются, а глубоко внутри Кремля. По-видимому, когда-то эти улицы сходились у городских ворот первоначального Кремля времен Калиты.
Улицы посада вырастали по краям дорог, которые вели в Кремль, а население охотно селилось в непосредственной близости к нему под прикрытием двух рек – Москвы-реки и Неглинной, что в той или иной мере обеспечивало безопасность от неприятеля. Кроме того, дополнительной защитой служила Нимфа с ее крутыми берегами.
Естественными границами Великого посада, как мы видим, были Москва-река и Неглинная. В том месте, где русло Неглинной делает резкий поворот к северу и начинает все далее отходить от Москвы-реки, кончалась первоначальная граница Великого посада. Это место, наиболее опасное для нападения, было укреплено рвом, который существовал еще в XV в. О нем говорится в одном летописном известии: в 1468 г. загорелся «…посад на Москве у Николы у Мокрого, и много дворов безчисленно изгоре; горело вверх по рву за Богоявленскую улицу, а от Богоявлениа улицею мимо Весяковых двор по Иоанн святы на пять улиц». Если думать, что горело по линии рва, вырытого вокруг позднейшей Китайгородской стены, то показание летописи останется совершенно непонятным. Но если считать, что речь идет о другом, более раннем рве, который опоясывал лишь часть будущего Китай-города, то направление рва очертится очень ясно. Начинаясь от Москвы-реки, у Николы Мокрого, он шел прямо вверх к Богоявленскому монастырю, следовательно, тянулся с Подола к Неглинной, «вверх», повторяя направление кремлевской стены, также пересекавшей пространство от Москвы-реки до Неглинной. Вероятно, это и была первоначальная территория Великого посада, огороженная рвом. Позже посад расширился далее на восток и занял место современного Китай-города.
ВЕЛИКАЯ УЛИЦА НА ПОСАДЕ
Последующие века внесли много нового в первоначальную топографию Москвы, так как с постепенным расширением города значение отдельных улиц и городских кварталов сильно менялось. По-видимому, наиболее древней частью Великого посада было Зарядье, лежавшее у подножия холма и носившее название Подола, как и в Кремле. Тяготение к реке весьма показательно для древней Москвы, более тесно связанной с речными путями, чем в позднейшее время, когда Москва сделалась всероссийской столицей и центром многочисленных сухопутных дорог. Параллельно течению Москвы-реки подольная часть Китай-города пересекалась Великой улицей, ясно различимой на старых планах Москвы; она являлась продолжением Подольной улицы в Кремле. Несколько неожиданное название Великая, или Большая улица восходит к древнему времени и впоследствии вывелось из обихода, когда Подол Великого посада потерял свое прежнее значение. На Великой улице стояла церковь с не менее характерным названием – Николы Мокрого. Культ Николы, изображаемого с мокрыми волосами, был распространен среди путешественников, в особенности у моряков. Никола Мокрый стоял там, где приставали речные суда купцов, совершавших свой далекий путь из Константинополя и Судака. В XV в. местность у церкви Николы Мокрого так и называлась Поречьем.
Выше говорилось, что Подол Великого посада, или современное Зарядье, был древнейшей частью Китай-города. Эта мысль подтверждается тем, что еще в конце XV в. Подол пользовался особой юрисдикцией, тогда как остальная нагорная часть Великого посада, начиная от Варварки, составляла иной судебный округ. Сравнительно небольшие размеры судебного округа на Подоле объясняются его большой населенностью, а также старыми традициями, с которыми московские власти и население расставались очень неохотно. Китайгородская гора заселялась позже низменного Подола, поэтому она составила вместе с прилегавшими к ней районами новый судебный округ Москвы.
Первоначальная территория Подола на Великом посаде с течением времени расширялась и достигла границы современного Китай-города, вплоть до болотистого Васильевского луга, на котором позже стояли строения Воспитательного дома. В XV в. Великая улица одним своим концом выходила к Кремлю, а другим упиралась в городской ров, окружавший Великий посад с востока и юга. Вдоль рва впоследствии построили китайгородскую стену. Южная и восточная стороны рва образовывали при стыке угол, из-за чего местность в этом углу носила название Острого («Вострого») конца. В XV в. здесь стояла церковь Зачатия Св. Анны, что у Острого конца. Тут находилось еще несколько церквей – прямой показатель относительной густоты населения этого района Москвы. Во время ужасных московских пожаров Подол становился постоянной жертвой огня и нередко пылал от торга – вдоль реки («возле Москву») – до Зачатия на Остром конце, или «что в углу». Другим концом Великая улица выходила к Кремлю. Самой древней церковью на Великой улице, по-видимому, был названный выше Никола Мокрый, впервые упомянутый в 1468 г. Поблизости от Зачатьевской церкви стоял старый Соляной двор, как об этом узнаем из редкого известия 1547 г. От местонахождения Подола позади рядов его рано стали называть Зарядье.
Несколько извилистых переулков, поднимавшихся по крутым скатам Китайгородского холма, выводили к Варварке, или древней Варьской, улице. В XVII в. эти переулки обозначались очень сложно, вроде: «…переулок, что от Зачатия пречистые Богородицы, мимо тюрем до Варварского мосту».
ВАРЬСКАЯ УЛИЦА (ВАРВАРКА)
Название Варварки, Варварьской улицы, или Варварьского моста, выводят обычно от церкви Св. Варвары, построенной здесь в начале XVI в. Юрием Урвихвостовым. Но до построения церкви улица называлась не Варварской, а Варьской. Подобное название можно признавать сокращением слова Варварская, но есть еще большее основание считать его древним. Оно происходило от слова «варя», которым обозначали не только варку соли или какого-либо другого продукта, но и некоторые повинности населения. Такие вари существовали в Москве еще в XIV в., и великие князья при разделе московской отчины отмечали, «…что потягло к городу, и что мед оброчный Васильцева стану, и что отца моего купленые бортници подвечныя варях, и кони ставити по станом и по варям». В раннее время «вари» устраивались в непосредственном соседстве с городом, и это название позже перешло на городскую улицу, подобно тому, как название Болото сохранялось за одним из центральных районов Москвы в те времена, когда уже ничто не напоминало о происхождении древнего прозвища. Во всяком случае, еще в конце XV столетия улица называлась Варьской.
В XVI в., когда память о прошлом Варьской улицы уже ослабла, а Москва широко раскинула свои границы, московский гость Урвихвостов построил здесь церковь в честь Св. Варвары (в 1514 г.), по-своему осмыслив древнее название той улицы, на которой он жил, подобно тому, как ранее Велес, или Волос, отождествился с именем Василия. К этому времени многие московские улицы уже назывались по церквам. Поэтому названия Варьская или Варварская улица быстро слились, и второе, более понятное, вытеснило древнее. Между прочим, нелишне отметить и то обстоятельство, что церкви Варвары – явление довольно редкое в Древней Руси, так как эта святая не принадлежала к числу особо почитаемых в русских землях.
Варьская улица быстро стала самой оживленной артерией Великого посада. Одним концом она выходила к торговым рядам и Кремлю, другим – к городскому рву. Извилистая Варьская улица продолжалась за рвом, отделявшим укрепленную часть города от его слобод. За позднейшими Варварскими воротами дорога шла к Яузе по линии современной Солянки, а за Яузой мимо слобод, сел и деревень уходила на восток. Прихотливая линия Солянки и Таганской улицы обозначает старинную дорогу, легко различаемую, например, на плане Мейерберга.
Район Варьской улицы и Подола, примыкавший к городскому торгу, был очень оживленным. Там помещались гостиные дворы и дома крупных московских купцов. Кое-какие указания позднейшего времени позволяют бросить взгляд на торговое значение этого района Москвы в раннее время, имея в виду необыкновенную приверженность населения к традиционным местам торговли, в силу чего Китай-город даже в начале XX в. сохранял роль торгового центра Москвы.
Московский торг в XVII в. помещался у Красной площади, в начале Варварки, Ильинки и Никольской. Но расширение его в сторону Никольской – дело относительно позднего времени, основной же нерв торговой жизни проходил в районе Варьской улицы. В отличие от других московских рынков этот главный торговый центр города назывался Великим торгом. Здесь в XVII в. между Ильинкой и Варваркой стоял Гостин двор, обращенный к Кремлю-городу «лицом». Здесь же «…на Варварском крестьце, против Гостина двора», находился Старый Денежный двор. Рядом с ним возвышался каменный храм Св. Варвары и близ нее Английский двор – ранее палаты Юрия Урвихвостова. На Варварке же был Устюженский гостин двор и позади него место, «…что ставились на нем арменя и греченя». На Подоле находился еще Купецкий двор или Купетцкая палата.
Варьская улица была усеяна церквами с давнего времени. На правой стороне, идя от Кремля, стояла церковь Варвары Великомученицы, именовавшаяся в XVII в., «что у Гостина двора». Она находилась почти рядом с церковью Максима Исповедника, за которым помещался Георгий Страстотерпец, «что у тюрем». На другой стороне улицы была церковь Воскресения Христова, «что на пяти улицах», с той же стороны у Варварьских ворот располагалась церковь Рождества Предтечи, «что на пяти улицах». Все названные обозначения – XVII в., но они дают нам представление о более раннем времени. Местность около церкви Георгия носила характерное прозвище «что на Псковской горе». По всей вероятности, в этом районе селились псковичи.
ИЛЬИНСКАЯ И НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦЫ
Следующая, Ильинская улица известна под этим названием не раньше XVI в. Впрочем, не думаем, чтобы название было очень новым, потому что церковь Илии «под сосной» известна уже в 1476 г. Наивное название «под сосной» картинно рисует московскую действительность XV в. с ее малыми приходскими церквами, умещавшимися под сосной или под вязом, как звалась соседняя церковь Иоанна Богослова. Упоминание о сосне само по себе весьма любопытно, так как в современной Москве сосны и ели давно уже вытеснены лиственными породами из пределов города на окраины. В раннее время сосны росли еще в городе как остатки векового соснового бора, некогда шумевшего на месте Москвы.
Ильинка была торговой улицей, на которую в XVII в. выходили строения Гостиного двора. В этом районе также находились какие-то кварталы, населенные иноземцами. Указание на это дает название церкви Воскресения в Старых Панех. Слово «паны» употреблялось в Москве по отношению к полякам и вообще к выходцам из Литовского великого княжества. Отметим, что позднейшее Малороссийское подворье помещалось вблизи от Старых Панов, на Маросейке. Любопытно, что в XVII в. напротив Воскресения в Старых Панех было «место Посольского двора».
Расположение посада на планах Москвы XVII в. и на плане, составленном в 1739 г. архитектором И. Мичуриным, рисует довольно хаотическую картину искривленных и перекрещивающихся улиц и переулков. У нас нет никаких оснований считать такую планировку улиц в Китай-городе новой, возникшей в XVII-XVIII вв. В основном те же улицы и то же расположение их устанавливаются и по более ранним планам Москвы XVI в., а следовательно, можно заключить, что и топография посада великокняжеской Москвы была примерно такой же. Посад пересекался тремя главными улицами, которые в переписных книгах XVII в. именуются «большими», «мостовыми», или «крестцами»: Никольской, Ильинской, Варварьской. Мостовыми их называли потому, что они были в отличие от других замощены бревнами.
Кроме больших проезжих улиц существовали улицы меньшего значения и переулки, беспорядочно пересекавшие посад в направлении от Москвы-реки к Неглинной. Эти улицы показаны на планах Москвы XVI-XVII вв., но в схематичном виде, вследствие чего, например, на плане Мейерберга 1661 г. улицы и переулки в Китай-городе изображены почти прямыми линиями, пересекающимися под прямым углом. Действительное направление их гораздо вероятнее показано кривыми линиями на современном плане Китай-города.
Самой большой поперечной улицей на посаде в XVII в. была улица Мостовая Веденская (т. е. Введенская), что пошла к Водяным воротам. Почти параллельно с ней пролегала Богоявленская улица, начинавшаяся от Богоявленского монастыря на Никольской, и некоторые другие.
МОСКОВСКИЙ ТОРГ
Центральным местом Великого посада являлся торг – «ряды», по имени которых древний Подол, раскинувшийся под горой, у Москвы-реки, стал называться Зарядьем. О расположении рядов в XVII в. мы имеем достаточно сведений, но такое их расположение было уже новизной, введенной после сожжения Москвы в 1610 г. и в особенности после страшного пожара 1626 г. Московские торговцы упорно тянулись к старине, и в 1626 г. в прежнее расположение рядов внесены были только некоторые изменения, в остальном власти придерживались раздачи «…торговых мест против старых их купленных, и вотчинных, и оборочных мест».
В начале XVII в. городские стены тянулись от Никольской улицы до Ильинки – «…каменные лавки к городу к Кремлю лицом». До разорения в них сидели пирожники и харчевники. Ряды продолжались и далее к Варварке и вниз от нее под гору, к Живому мосту на Москве-реке. Вся площадь перед Кремлем была занята скамьями торговцев, сидевших и у Василия Блаженного, и на Лобном месте, и на Неглименском мосту.
В более раннее время торг, несомненно, находился в том же месте, что в XVI-XVII вв., так как торговцы неохотно меняли насиженные места, к которым привыкли покупатели. Место для торга находилось в непосредственной близости к Москве-реке, за пределами кремлевских стен, «на посаде», где жили ремесленники и куда свободно могли приезжать крестьяне подмосковных сел.
В XVII -XVIII вв. московский рынок описывался неоднократно, хорошо известны нам и названия отдельных торговых рядов; многие из этих названий могут восходить к древнему времени, но для исследователя раннего периода московской истории они дают весьма мало. Любопытнее других два следующих названия: Сурожский шелковый ряд (от Спасских ворот к Ильинскому крестцу) и Суконный Смоленский ряд (от Никольского крестца). Первое название связывает шелковые товары с Сурожем, откуда их привозили в Москву. По всей вероятности, Суконный Смоленский ряд также свидетельствует о привозе сукон из Смоленска, торговля с которым имела для Москвы немаловажное значение.
Для приезжих купцов предназначался особый двор, о чем говорят некоторые позднейшие документы. Впрочем, к таким сведениям надо относиться с большой осторожностью, поскольку в XVI в. московская торговля заметно расширилась и изменила свое направление, ориентируясь уже не на Черное, а на Балтийское море.
Гостиные дворы в Москве существовали, по крайней мере, уже в XV в., что видно из запрещения удельным князьям, владевшим подмосковными дворцовыми селами, ставить в них гостей, «…иноземцев, и из Московской земли, и из своих уделов». Приезжие гости должны были останавливаться только на «гостиных дворех».
ГОРОДСКИЕ ПРЕДМЕСТЬЯ
За пределами Кремля и Китай-города городские постройки раскидывались еще просторнее, группируясь отдельными слободками, отделенными друг от друга лугами, садами, реками, а порой и просто оврагами или пустырями. «За рекою у города у Москвы» тянулся Великий луг, занимавший большую площадь в современном Замоскворечье. О нем великие князья упоминают особо в своих духовных грамотах, отмечая тем самым его немалое экономическое значение. Другой, Васильевский луг, простирался вдоль Москвы-реки от Великого посада до узы, на том месте, где позже построили Воспитательный дом. Вообще берега Москвы-реки в пределах города представляли собой обширные луга. «Москва – быстрая река»,- как о ней говорит «Задонщина», текла, еще не стесненная набережными.
В отличие от Подола, который все еще имел крупное значение, но не получил развития далее, вниз по течению Москвы-реки, упираясь в болотистый Васильевский луг, Великий посад разрастался в основном по нагорной территории Китайгородского холма. Еще в XIV в. нагорный район, по-видимому, был заселен относительно слабо, насколько об этом можно судить по тому, что Никольский (Никола Старый) и Богоявленский монастыри на Никольской улице считались загородными. В XV в. Великий посад занимает уже всю площадь позднейшего Китай-города. Впрочем, до начала XVI в. нагорная территория почти не имела каменных зданий, за исключением собора Богоявленского монастыря, который обозначали почтительным прозвищем Богоявление каменное. Построение этого собора приписывают тысяцкому Протасию и относят к 1342 г. На площади Великого посада жили просторнее, чем в Кремле, тут стояли дворы некоторых купцов («Весяковых двор»). Границы Москвы расширились в XV в. в основном в восточную сторону. В 1394 г. «…замыслиша на Москве ров копати с Кучькова поля в Москву, и много бе людем убытка: хоромы разметывая, ничего не доспеша». Кучково поле находилось у современных Сретенских ворот, значит, ров копали в виде сектора от Москвы-реки до Неглинной, где позднее был создан Белый город (т. е. по нынешнему кольцу «А»), используя долины ручьев, впадавших в Москву-реку и Неглинную. Затея оказалась слишком дорогой, но она показывает, что уже в конце XIV в. город расширялся в северо-восточном направлении. В районе, намеченном к ограждению рвом, уже существовала каменная церковь Всех Святых на Кулишках, упомянутая в известии 1488 г. В переделанном виде церковь сохранилась до нашего времени. По старому преданию, она была построена Дмитрием Донским в память воинов, убитых на Куликовом поле. Кулишки – местность очень известная в Москве. Современная московская пословица «у черта на куличках» для обозначения отдаленного места, возможно, относится к ней. Большую часть района у Кулишек занимали сады, вследствие чего церковь Св. Владимира поблизости от Солянки так и называли «в Старых садех». Здесь в 1423 г. находился новый великокняжескии двор.
Поселения продолжались и далее на восток по направлению к Яузе. На ней находилась пристань («пристанище»), при которой построили амбары («одрины»), принадлежавшие вдове Владимира Андреевича Серпуховского и сдававшиеся внаем пришлым купцам. Населенным был и район Заяузья с его ремесленными слободами (Гончарной и Кузнецкой). Здесь на высоком холме, при впадении Яузы в Москву, стояла церковь Никиты Мученика, названная уже в известии 1476 г. Неподалеку находился Спасский монастырь, где игумен Чигас построил каменную церковь из кирпича (1483 г.).
На окраине города уже во второй половине XIV в. возникли два богатых монастыря: Симонов (на высоком холме над Москвой-рекой) и Андроников, или Андроньев (на возвышенном берегу Яузы). Симонов монастырь получил свое название от владельца местности Симона Головина. Монастырь, основанный сперва на Старом Симонове, был перенесен на новое место, но сохранил прежнее название. Симонов монастырь строился под покровительством великого князя и его бояр, которые «…даяху имениа много, злато и серебро, на строение монастырю». О каменной церкви Успения летописец отзывается как о великой. Она строилась 26 лет и была окончена в 1404 г. Почти одновременно с Симоновым основан Андроников монастырь, построенный митрополитом Алексеем в память своего благополучного прибытия в Константинополь и спасения от бури. Каменная церковь в Андрониковом монастыре, в основном сохранившаяся до сих пор (хотя и в переделанном виде), – чудесный памятник архитектуры великокняжеской Москвы.
Симонов и Андроников монастыри с каменными храмами и деревянными стенами сделались передовыми форпостами Москвы. Недаром же они выросли на юго-восточной окраине города, обращенной в сторону Золотой Орды, откуда постоянно можно было ждать внезапного набега.
ЗАНЕГЛИМЕНЬЕ
Третьей частью города было Занеглименье, заселение которого в основном происходило в XV в.
Границы Занеглименья на западе и севере далеко еще не доходили до современного кольца бульваров, образованных на месте сломанных стен Белого города. Во всяком случае, село Кудрино, название которого долго сохранялось в названии Кудринской площади, еще в XV в. не входило в черту города. Кудрино, или Большое село, принадлежало Владимиру Андреевичу, после смерти которого по данной его вдовы, княгини Елены Ольгердовны, перешло во владение митрополитов. Владимиру Андреевичу принадлежали также «…большой двор… на трех горах с церковью». Вся эта обширная местность обозначена в обводной XV в. как имеющая межи «…по реку по Ходыню, да по Беседы, да по Тверскую работу, да по Липы, да по Сущевскую межу, да по Хлыново, да по городское поле, да по Можайскую дорогу, да по перевоз». Митрополит Фотий отдал эту землю в свой новый монастырь Введения. Характер местности в районе между Кудрином и Москвой-рекой виден из грамоты 1492 г. Митрополит Зосима позволяет Саве Микифорову сесть на церковной земле Новинского монастыря «…на перепечихе у Москвы-реки на березе», разрешив ему поставить свой двор и сечь лес.
Общую и близкую к истине картину Занеглименья в XIV-XV вв. дал Н. Г. Тарасов в статье о застройке Москвы от Арбатской площади до Смоленской: «От остожья до Никитской улицы в XIV-XV вв. были расположены великокняжеские дворы и села, тянувшиеся в Кремлю. К этим владениям крупнейших светских феодалов примыкали владения крупнейших феодалов духовных: московского митрополита, владевшего землями известного в XV в. монастыря «на Новом» (иначе Новинский монастырь), и ростовского архиерея, имевшего недалеко от теперешнего Смоленского рынка «на бережках» у Москвы-реки Рыбную слободку и двор близ церкви Благовещения, построенной в 1513 г. Характер феодального хозяйства определил состав и занятия жителей этой местности. Здесь жили княжьи и церковные оброчники, купленные люди, холопы-страдники, княжеские промышленные люди, конюхи и сокольники, архиерейские рыболовы, свободные крестьяне-издельники. Характер населения и его занятий обусловливал и характер застройки этой местности. На большом пространстве были разбросаны починки, селища, деревушки, состоявшие из одной-двух изб и отделявшиеся одна от другой полями, лугами, пустырями».
Не все в этой картине, как далее мы увидим, верно, но основные особенности заселения Занеглименья в великокняжеское время намечены ярко и в достаточной мере правильно. Заселение Занеглименья в основном относится только к XV в. Однако даже в это столетие Занеглименье можно было считать сравнительно мало заселенной частью Москвы.
Так, район Сретенских ворот еще в конце XV в. назывался Вспольем. Сретенский монастырь был воздвигнут на «Великой Владимирской дороге», в местности с характерным названием Кучково поле. Даже в конце XV в. Занеглименье считалось загородной территорией. В духовной князя Патрикеева читаем такое обозначение: «…мои места загородцкие за Неглимною», хотя местность и находилась в непосредственной близости к Кремлю. Население селилось в Занеглименье по бокам больших дорог, которые постепенно обстраивались домами и делались городскими улицами. Владимирская дорога в пределах города образовала Сретенскую улицу, впервые названную в 1493 г. Свое название она получила от основанного здесь Сретенского монастыря. Старые названия сохранили Дмитровская (Дмитровка) и Тверская улицы. Волоцкая дорога сделалась Никитской улицей от Никитского монастыря, тогда как за Арбатом осталось его древнее наименование.
К концу XV столетия весь район Занеглименья уже был застроен. Об этом нам дает понятие рассказ о пожаре 1493 г., когда погорел посад за Неглинной. Пожар начался в Замоскворечье и охватил все Занеглименье. Посад за Неглинной выгорел от Св. Духа в Чертолье к Борису и Глебу на Арбате и до Петровской слободки (т. е. Петровского монастыря), на всем протяжении позднейшего Белого города от Москвы-реки до Петровки.
Занеглименье уже в середине XV в. было окружено рвом, на котором в 1453 г. находим церковь Бориса и Глеба «на рву». Ров, видимо, тянулся по линии будущих каменных стен Белого города (в основном совпадая с современным кольцом «А»). Окраинное положение района, примыкавшего к валу, вызвало появление здесь нескольких монастырей: Сретенского, Рождественского, Петровского. Все они стояли при выходе из города, там, где начиналось Всполье, т. е. открытая местность. Во всяком случае, Занеглименье в XIV-XV вв. можно считать более бедным, чем восточную часть города. В какой-то мере это объясняется относительно слабой его защищенностью от нападений в отличие от восточных кварталов Москвы, прикрытых глубокой долиной Яузы, военное значение которой отмечалось иностранными авторами и в начале XVI в. Немалое значение имело и то обстоятельство, что ранняя торговля Москвы ориентировалась на восток и юг, к Черному и Каспийскому морям, а не на запад, о чем говорилось в главе о московской торговле. Во всем Занеглименье XV в. известна только, одна каменная церковь Георгия, которую так и величали в летописях и грамотах: Егорий каменный.
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Древнейшим названием Замоскворечья было Заречье. Впервые под этим названием оно становится известным в 1365 г. Название сохраняется и позже, в конце XV в., когда район Замоскворечья был уже в достаточной мере населенным. В пожар 1475 г., начавшийся в Замоскворечье, у церкви Николы («зовомой Борисовой»), погорело много дворов. Во время пожаров пламя нередко перекидывалось с одной стороны Москвы-реки на другую. Если река не служила абсолютным препятствием для огня, значит, строения подходили вплотную к берегам.
Заречье в еще большей степени, чем Занеглименье, представляло собой городское предместье. Наши источники ни разу не упоминают о существовании в нем каменных церквей. В этом районе не было даже монастырей. Татарские отряды обычно подходили к Москве с юга, что делало Замоскворечье самой небезопасной частью города. Тем не менее там создалось настолько компактное поселение, что иностранные путешественники считали Москву-реку пределом между двумя половинами города.
Замоскворечье связывали с остальным городом несколько мостов. Зимой ледяная гладь Москвы-реки делалась рынком – обычай, державшийся до нашего времени. Контарини описывает подобный рынок XV в.: «В конце октября река, протекающая посреди Москвы, покрывается крепким льдом, на котором купцы ставят лавки свои с разными товарами и, устроив таким образом целый рынок, прекращают почти совсем торговлю свою в городе. Они полагают, что это место, будучи с обеих сторон защищено строениями, менее подвержено влиянию стужи и ветра. На таковой рынок ежедневно, в продолжение всей зимы, привозят хлеб, мясо, свиней, дрова, сено и прочие нужные припасы; в конце же ноября все окрестные жители убивают своих коров и свиней и вывозят их в город на продажу. Любо смотреть на это огромное количество мерзлой скотины, совершенно уже ободранной и стоящей на льду на задних ногах ‹…› На реке бывают также конские ристания и другие увеселения, но нередко участвующие в сих игрищах ломают себе шеи».
ХАРАКТЕР ЗАСТРОЙКИ
Застройка шла неравномерно, и великокняжеская Москва мало напоминала знакомый нам город с рядами домов, выстроившихся вдоль улиц. За пределами Кремля и Великого посада поселения располагались отдельными слободками, отделенными друг от друга речками, оврагами («ярами»), рощами и болотами. Кроме Яузы и Неглинной в черте города протекали ручьи (например, Черторый и Рачка). О лесных оврагах («дебрях») напоминают нам названия Никола Дербенский и Григорий Неокесарийский, что в Дербицах. Низменные пространства против Кремля до сих пор носят название Болото. Кое-где поднимались отдельные холмы («горы»). Холмистый рельеф придавал Москве немалую прелесть.
О размере дворов московских жителей имеем несколько указаний только XVI в., но и это позволяет более или менее сделать некоторые выводы. Двор Троице-Сергиева монастыря находился в Богоявленском переулке, на левой стороне, если идти с Ильинской улицы на Никольскую. Он имел 20,5 сажен в длину и 14 сажен в ширину, т. е. был почти равен 300 квадратным саженям. Двор этот был отдан позже посадскому человеку, что доказывает обычность подобных дворовых размеров в Москве. Взамен троицкие власти получили двор суконщика Лобана Иванова сына Слизнева, имевший в длину 40,5 сажен, а в ширину 9 сажен без локтя, да в другом месте в огороде было 8 сажен (по-видимому, тоже в ширину). Даже без огорода новый Троицкий двор занимал почти 400 квадратных сажен, а ведь раньше он принадлежал тяглому человеку, суконнику.
В XV в. Москва выросла очень заметно, но застройка города явно отставала от его значения как столицы русского народа, вплоть до капитального строительства, предпринятого при Иване III и его сыне Василии III.
ПРИМЕРНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МОСКОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Летописные источники и актовые материалы представляют нам Москву XIV-XV вв. как большой городской центр Северо-Восточной Руси, уступающий только Новгороду и, может быть, Пскову. В собственной Залесской земле, под которой наши источники понимают в основном междуречье Волги и Оки с примыкающими к нему районами, Москва была и в эти столетия, без сомнения, крупнейшим городом.
Однако прямых указаний на численность населения в Москве очень немного. Наибольшее значение имеет летописное свидетельство о количестве трупов, погребенных в Москве после ее разорения Тохтамышем в 1382 г. Обычно приводится заметка Воскресенской летописи, согласно которой за уборку 80 трупов платили по 1 рублю, всего же выдано 300 рублей. По этому счету выходит, что в Москве было убито 24 тыс. человек. Но показание Воскресенской летописи несогласно с более древними известиями, по которым истрачено было всего 150 рублей. Наиболее же точные сведения дает так называемый «Рогожский летописец», особенно ценный для московской истории XIV в. Он сообщает, что давали за 40 мертвецов по полтине, а от 70 – по рублю, и сочли, что всего раздали 150 рублей. Таким образом, надо признать, что убрано было около 10 тыс. трупов. Повышение оплаты в зависимости от количества убранных трупов, отмеченное «Рогожским летописцем»,- такая деталь, какая была уже неинтересна позднейшим сводчикам, всегда склонным округлять и увеличивать цифры погибших во время битв, осад и стихийных бедствий. Поэтому мы имеем полное право рассматривать показание «Рогожского летописца» как самое достоверное.
Приведенная нами цифра в 10 тыс. погибших москвичей только косвенно говорит о количестве населения в 1382 г. В это число входили не одни горожане, но и беглецы из окрестных сел и деревень. В то же время нельзя забывать о многочисленных пленных, уведенных татарами, ведь Тохтамыш «…полона поведе в Орду множество бещисленое». Кроме того, многие москвичи, особенно бояре и купцы, со своими семьями покинули город до прихода татар. Цифра в 10 тыс. жителей для Москвы кажется скорее преуменьшенной, чем преувеличенной. Напрашивается вывод, что московское население в 1382 г. можно исчислять примерно вдвое против названной цифры, в 15-20 тыс. человек. Такая цифра очень высока, как показывают исследования о численности населения в крупных западноевропейских городах.
Наши предположения подтверждаются другими летописными известиями о Москве конца XIV столетия. В пожар 1390 г. на посаде сгорело несколько тысяч дворов. Хотя количество уничтоженных дворов измерялось тысячами, пострадала только часть городского посада. Более точные сведения дает нам летописное известие о пожаре 1488 г., охватившем примерно полгорода, без Кремля и значительной части Великого посада. Пожар начался от церкви Благовещения на Болоте, и погорели «…дворы всех богатых гостей и людей всех с пять тысячь». Значит, на посаде находилось не менее 5 тыс. дворов. Полагая на каждый двор минимальную цифру в 2 человека, получим до 10 тыс. жителей. Прибавив население Кремля и уцелевших дворов на посаде, смело можно говорить о том, что Москва в целом насчитывала 8-10 тыс. дворов, т. е. имела никак не менее 20 тыс. жителей, а вероятно, значительно больше, так как обычно во дворах жило не по 2, а по 3-4 человека.
Конечно, численность московского населения не оставалась неизменной на протяжении двух столетий и имела тенденцию к непрерывному росту. Особенно большой скачок в увеличении населения, по-видимому, произошел в Москве за тот короткий период времени, который отделяет княжение Ивана Калиты от княжения Дмитрия Донского. Это обстоятельство еще хорошо помнили в XV в., когда епископ Питирим написал житие Петра-митрополита. По словам Питирима, град Москва при Калите был еще малонаселенным. А сказания о нашествии Тохтамыша, наоборот, рисуют Москву богатой и многолюдной. Новый период роста московского населения начинается со второй половины XV в., после окончания феодальной войны между Василием Темным и Шемякой, когда Москва переживала относительно спокойный период.
Наши соображения о численности московского населения в XIV-XV вв. можно проверить и путем наблюдения над топографией города. Москва времен Калиты занимала, как мы видели выше, только территорию Кремля и Подол Китайгородского холма. Самый Китайгородский холм, Заречье и Занеглименье заселены были очень слабо. Во второй половине XIV в. Китайгородский холм уже заселили, а поселения в Заречье и в Занеглименье сильно расширились. Спустя столетие (в конце XV в.) поселения на северном берегу Москвы-реки дошли примерно до линии позднейшего Белого города. Это расширение границ города соответствовало непрерывному росту численности городского населения, жившего на обширных пространствах Белого города и отчасти Замоскворечья.
ГЛАВА VIII. МОСКОВСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ
Известно, что образование в средние века было уделом немногих. И по совершенно понятным причинам. Дороговизна письменных материалов (пергамента, а с XV в. бумаги), способ письма – медленный и кропотливый, относительно небольшая потребность в письменных документах и господство устных сделок – все это приводило к тому, что письменность распространялась только среди узких кругов феодального общества, главным образом среди духовенства. Даже в XVII в. подписи под Соборным уложением 1649 г. обнаруживают, что в числе крупных московских дельцов все-таки было немало неграмотных. Правда, высказывались и другие мнения о распространении грамотности среди русских людей XVI-XVII вв., но они основаны на очень ограниченном материале и требуют более глубоких исследований. К тому же XVI и XVII столетия внесли много нового в отечественное просвещение. В частности, употребление бумаги как письменного материала взамен дорогого пергамента и внедрение в письменность скорописных почерков, убыстрявших процесс письма, явились новыми элементами, которых не знала великокняжеская Москва.
В рядах русского общества XIV- XV вв. образование распространялось неодинаково. Грамотность была обязательна для духовенства, которое не могло исправлять церковных служб без книг. Поэтому и в более ранние времена «попов сын», не научившийся грамоте, выбывал из разряда церковных людей и попадал в число изгоев. Группы книжных переписчиков пополнялись главным образом за счет духовенства. Рядовое духовенство ограничивалось только начатками грамотности, тогда как среди высшего духовенства встречались высокообразованные люди.
Грамотность имела несомненное распространение и в среде горожан, в первую очередь купцов. Таковы были известные уже нам Ермолины. Письмо Василия Дмитриевича Ермолина, посланное им в Литву, обнаруживает в его авторе человека, владевшего бойким пером и во всех отношениях «книжного». Прибавим сюда небольшой по численности, но влиятельный круг княжеских дьяков, писавших княжеские грамоты
Грамотность распространялась также в сословии московских бояр. Сын одного из них, митрополит Алексей, еще ребенком научился грамоте. Как видно из жития Сергия Радонежского, обучение грамоте вообще входило в программу воспитания боярских детей. Отрок Варфоломей (впоследствии инок Сергий) учился грамоте вместе со своим старшим братом Стефаном. Из жития Сергия видно, что под обучением грамоте понималось не простое чтение псалтыри, а умение читать и петь псалмы – «псалмопение глаголати», «стихословити зело добре и стройне». У нас есть свидетельства, говорящие о недостаточном образовании московских великих князей, причем исходящие из уст панегиристов московских князей, а не их врагов. Дмитрий Донской, по словам его биографа, недостаточно знаком был с книгами («…аще бо и книгам не научен сый добре»), тот же отзыв слышим о Василии Темном. Это значит, что они не были обучены всем тонкостям псалмопения и стихословия. Но показания эти не являются доказательствами того, что Дмитрий Донской и Василий Темный были абсолютно неграмотными. Русские книжники, видимо, хотели лишь отметить недостаточное образование своих князей. Дмитрий не научен был «добре» книгам, следовательно, в какой-то мере, хоть и «не добре», был грамотным.
Обучение детей грамоте начиналось рано. Исключительную по своей простоте картину начального обучения отроков дает Епифаниево житие Сергия Радонежского. Родители отрока Варфоломея отдали его вместе с братом Стефаном «…учиться божественным писанием». Стефан быстро научился читать, а Варфоломей учился «не скоро и косно». Учитель обучал «со многим прилежанием», отрок же плохо внимал и сам говорил: «…никако же могу разумети, о них же ми сказуют». Только чудесное вмешательство некоего старца помогло отроку одолеть грамоту. Конечно, для полного усвоения книжной премудрости требовались и прилежание, и своего рода способности. Отроков, невнимательно слушавших на уроках и учившихся «не скоро и косно», вероятно, было немало в Древней Руси, в особенности в княжеской и боярской среде, где выше ценились воинские доблести, чем образование. Поэтому в большинстве случаев обучение молодых людей из аристократического общества оканчивалось на первой же ступени, ограничиваясь знакомством с грамотой. Зато в монастырях возникали кружки образованных людей, создавались школы переписчиков и переводчиков, накапливались значительные книжные богатства.
МОСКОВСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
Москва рано стала делаться крупнейшим русским центром переписки и распространения книг. Уже Иван Калита обращал большое внимание на переписку книг («…многим книгам, написанным его повелениемъ»). К числу этих книг надо относить в первую очередь знаменитое Сийское евангелие, написанное на Двину в 1339 г. повелением чернеца Анания в граде Москве. В нем находим первые следы московского аканья и характерное название нашего города – «в граде Москове», которое живо напоминает такое же название Москвы в первом известии о городе 1147 г. Сийское евангелие – прекрасный образчик ранней московской письменности, случайно сохранившийся на севере. Оно написано на пергаменте, четким и красивым уставом. Особенно замечательна миниатюра, изображающая Христа и его учеников. Живость движений и нежность красок делают эту миниатюру выдающимся памятником раннего московского искусства.
Сийское евангелие было роскошным экземпляром, сделанным по специальному заказу. Два других московских памятника середины XIV в. дают нам представление о рядовых московских рукописях того же века. В 1354 г. было написано Евангелие апракос «…рукою многогрешного раба божия чернца Иоанна Телеша к священному отцу Клименту, замышленьем Олексия Костяньтинови-ча, при великом князе Иоанне Ивановиче, при епископе Афонасьи Прияславьском» (т. е. переславском).
Любопытна внешность этого Евангелия. Оно написано на пергаменте в два столбца крупным, но очень неровным и некрасивым почерком. Начало статей отмечено большими заглавными буквами звериного орнамента. Они выполнены красными и коричневыми линиями неизменно на зеленом фоне. Во всем внешнем виде этой московской рукописи чувствуется что-то провинциальное, напоминающее нам о смутном княжении кроткого и красивого Ивана Ивановича, мало похожего своими талантами и на отца – Ивана Калиту, и на сына – Дмитрия Донского. Рассматриваемый редкий экземпляр ранней московской письменности изобилует пропусками и ошибками, по просторечию пишет Иван вместо Иоанн и проч. В этом заметны черты, типичные для московской письменности XIV в. с ее стремлением приблизить древний язык к народному московскому языку.
Другая московская рукопись на четыре года моложе предыдущей. Это тоже Евангелие, написанное «…при благоверном великом князе Иване Ивановиче и при митрополите Олексее рабом божиим Лукьяном» в 1358 г. Оно исполнено на пергаменте в два столбца крупным и несколько более красивым почерком, чем Евангелие 1354 г. Заставка и заглавные буквы выполнены в зверином стиле, но фон их почти синий, а не зеленый. Страшная московская действительность середины XIV в., постоянная угроза татарского нашествия, чуются нам в особом чтении: «Память труса (землетрясения. – М. Т. ) и страха всякого»,- помещенном под 5 июня. Такая память имелась уже и в греческих рукописях, но она не теряет своей выразительности для московских условий времен Ивана Красного: «…память с человеколюбьемь нанесена на ны страшныя беды в нахожденье иноязычник, от них же щедрый бог милости ради сво(ей) избави нас». В этом списке особенно заметно усилие передать мысль священного текста яснейшими русскими и даже простонародными оборотами речи, как считали А. Горский и К. Невоструев, приводя характерные речевые обороты: «и аще кто поймет тя в версту», «смотри цветца селнаго».
Названные нами памятники являются только немногими и случайными остатками того письменного богатства, которое Москва накопила за XIV столетие. О том, какое количество рукописей хранилось в московских церквах и монастырях, можно судить по рассказу о разорении Москвы во время нашествия Тохтамыша. Московские соборы до самых сводов были завалены рукописями, и все они погибли от пожара: «Книг же толико множьство снесено с всего града, и из загородиа, и ис сел, в соборных церквах до стропа наметано, схранения ради спроважено, то все без вести сотвориша». Как ни тесны были московские соборы XIV в., перед нами все-таки встает яркая картина громадных груд рукописей, сваленных для сбережения в соборах до сводов. Пожар, испепеливший Москву в 1382 г., уничтожил все эти сокровища московской письменности без остатка, чем и объясняется редкость, почти единичность, рукописей бесспорно московского происхождения, восходящих к временам, предшествовавшим Тохтамышеву разорению.
После разорения в московских монастырях возобновилась усиленная переписка книг, количество наличных памятников письменности стало быстро восстанавливаться. Особенно большое значение имели два московских монастыря, основанных при митрополите Алексее: Чудов и Андроников. В Чудовом монастыре быстро образовалась собственная школа писцов. О ней дают представление две рукописи: «Книга о постничестве» 1388 г., написанная «…замышленьем архимандрита Якима, а писаниемь черньца Антонья», и «Книга Иова» 1394 г.
Эти московские рукописи резко отличаются от памятников середины XIV в. своим более тщательным исполнением. Обе они написаны на пергаменте в два столбца, украшены заставками и заглавными буквами звериного орнамента, но почерк писцов мелкий и выдержанный, свидетельствующий о том, что в Чудове монастыре уже создалась своя школа переписчиков. Таким же мелким, так сказать, бисерным почерком выполнена и рукопись, приписываемая самому митрополиту Алексею и вышедшая из того же Чудова монастыря.
Школа писцов сложилась и в Андрониковом монастыре, где трудилась над перепиской книг группа монахов-писцов. В 1402 г. грешный Анфим (Онфим) переписал «Изборник», «…иже есть око церковное» в княжествующем граде великом Москве при державе великого князя Василия Дмитриевича, при митрополите Киприяне, в монастыре Андроникове при игуменьстве Савине. В той же обители и почти с тем же предисловием была переписана «Книга слов Василия Великого» при державе великого князя Василия Дмитриева сына «неким Василием». Анфим и Василий – монахи, работавшие и на заказ «добро-писцы», как их назвали бы наши источники. В рукописи, написанной в Андро-никовом монастыре в 1402 г., нам бросается в глаза особая тщательность письма и оглавление в конце книги, которое должно облегчить нахождение нужного слова. Послесловие отмечено особым красивым киноварным значком.
Вероятно, в московских монастырях и выработался тот своеобразный почерк, типичный для конца XIV – начала XV в., получивший название русского полуустава. Стремление ко всему национальному русскому, столь ярко проявившееся при Дмитрии Донском и нашедшее свое выражение в героической борьбе с татарами и в попытках установления независимой русской митрополии, сказалось в московской письменности конца XIV столетия. Русские рукописи того времени отличаются не только своим полууставным почерком от южнославянских. В области орфографии заметно желание упростить понимание древних памятников. Знаменитый Троицкий список «Русской Правды», написанный в XIV в.,- прекрасный образчик этого характерного направления. Он отличается не только большей правильностью текста, но и тем, что писец его отказался от воспроизведения архаических форм языка.
К тому же концу XIV в. относится и начало внедрения в нашу письменность бумаги, которое также идет в пер вую очередь через Москву.
Нельзя считать случайным тот факт, что первый русский памятник, написанный на бумаге, – духовная Симеона Гордого. Москва быстрее поворачивалась в сторону нового материала, чем Новгород, еще долго державшийся дорогого, но традиционного письменного материала – пергамента, а стремление упростить и сделать более понятным евангельский текст, с чем мы встречаемся в московских памятниках 1354 и 1358 гг., напоминает нам о времени митрополита Алексея, ревностного поборника национальных русских интересов и в области политики, и в области культуры.
В XV столетии Москва окончательно делается крупнейшим центром русской письменности. Об этом мы узнаем из письма Василия Дмитриевича Ермолина, которое он написал литовскому писарю Якову, собиравшемуся купить в Москве полный годовой пролог (собрание кратких житий и поучений) в одном переплете, а также жития 12 апостолов в одном переплете («в одных досках»). Получив такой заказ, Ермолин ответил, что купить подобные рукописи в Москве можно, только они будут в различных переплетах («…кто будет таково написал, ин собе то и держит, а на денги того не продаст»). Поэтому лучше нанять «доброписцев», чтобы они сделали копии «…по твоему приказу с добрых списков». По этому поводу издатель письма А. Д. Седельников правильно пишет: «На Северо-Востоке не только лучше сохранили старую письменность, на что указывают многочисленные находки древнейших памятников в рукописях великорусских XV и частью XVI вв., но и гораздо шире использовали переход к новым ее условиям».
Как видим, московские «доброписцы» имеют за собой длительную историю. Пожары и разорения уничтожили громадное количество памятников московской письменности, но и то, что осталось, говорит о многом, прежде всего о Москве как об одном из крупнейших городских центров XIV -XV вв., не уступавшем по своей письменной культуре Новгороду, а в некоторых случаях превосходившем его. Это будет наглядно видно на примере московской литературы великокняжеского периода.
НАЧАЛО МОСКОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Московская письменность не имела столь глубоких корней, как новгородская. В конечном итоге Москва XII – XIII вв. все же была новым городом, лишенным такого богатства письменных традиций, как старые города, подобные Новгороду или Смоленску. Между тем условия для развития московской литературы в XIII в. были явно неблагоприятными. Поэтому московская литература – явление сравнительно позднее и начинает оформляться только во второй половине XIV в., хотя отдельные записи московского происхождения относятся и к более раннему времени, к княжению Калиты и его преемников. В основном развитие московской литературы падает на конец XIV в., на правление Дмитрия Донского и его ближайшего наследника.
По какому-то странному недоразумению историки литературы отмечают всего три московских литературных памятника конца XIV в.: 1) «Задонщину», 2) «Сказание или повесть о Мамаевом побоище», 3) житие Дмитрия Ивановича. По всей вероятности, это объясняется тем, что они сохранились в особых списках и, за исключением жития Дмитрия Донского, не вошли в наши летописи. Между тем летописи сохранили нам и другие повести конца XIV в., когда-то существовавшие в отдельном виде, но теперь известные только по летописям. Таковы сказания о Тохтамышевом нашествии. Добавим сюда хождения митрополита Пимена и иеродиакона Зосимы в Царьград, а также жития митрополитов Алексея и Петра, и у нас получится достаточно внушительный список московской литературы конца XIV в.
Предупредим заранее, что в нашем обзоре мы не преследуем специальные историко-литературные цели. Это дело специалистов и не по плечу автору данной книги. Однако отсутствие в наших ученых трудах сколько-нибудь полного обзора московской литературы заставляет нас выступить с таким очерком, без которого культурное значение великокняжеской Москвы останется освещенным неполно и неточно. Обзор мы начнем с тех произведений, возникновение которых в конце XIV в. бесспорно. Таковы в первую очередь повести о Тохтамышевом разорении.
ПОВЕСТИ О ТОХТАМЫШЕВОМ РАЗОРЕНИИ
Разорение Москвы в 1382 г. и драматические подробности этого события повели к созданию целого цикла повестей. Наиболее известны обширные повести о Тохтамышевом нашествии, помещенные в Никоновской и Воскресенской летописях, но как раз они мало типичны для московской литературы XIV в. и представляют собой позднейшие переработки более ранних сказаний. Два сказания ближе всего по времени возникновения к трагедии 1382 г.
Одно из них помещено в Симеоновской летописи и «Рогожском летописце», в основе которых лежит Московский летописный свод XIV в. В том и другом списке рассказ начинается словами: «Того же лета царь Токтамышь посла в Болгары и повеле христианскыя гости Русскыя грабити, а ссуды их и с товаром отнимати и провадити к себе на перевоз». Тохтамыш пошел «изгоном» (т. е. внезапным набегом) на Русскую землю, а суздальский князь Дмитрий Константинович послал к нему двух своих сыновей, Василия и Семена, которые догнали татар у Рязани. Олег Иванович Рязанский обвел Тохтамыша вокруг своей земли и указал ему броды на реке Оке. Перейдя Оку и взяв Серпухов, татарские полчища устремились к Москве. Великий князь Дмитрий Иванович отъехал в Кострому, а в Москве затворился литовский князь Остей, внук Ольгерда, «с множеством народа».
Татары подошли к городу 23 августа, в понедельник, и стояли 3 дня, а на четвертый день вызвали Остея из города, убили его перед крепостными воротами и залезли на стены по лестницам 26 августа, в 7 часов дня. Горожане укрылись в каменных церквах, но татары разбили церковные двери, перебили беглецов и разграбили церковное имущество. Не ограничившись Москвой, татары повоевали другие русские города, но потерпели поражение у Волоколамска от Владимира Андреевича Серпуховского. На обратном пути Тохтамыш взял Коломну и разорил Рязанскую землю. Через некоторое время Дмитрий Донской и Владимир Андреевич въехали в Москву и увидели взятый и выжженный город, разоренные церкви, бесчисленное множество убитых и велели хоронить мертвых и платить за 40 похороненных мертвецов по полтине, а за 70 – по рублю, и всего было дано 150 рублей.
Краткий рассказ о разорении Москвы изобилует такими подробностями, которые, несомненно, обнаруживают хорошее знакомство с событиями. В частности – точная дата взятия Москвы, 26 августа, «в 7 час дни», указание на то, что суздальские князья нашли след Тохтамыша на Серначе. Нас поражает особая сдержанность автора по отношению к Тохтамышу и объяснение причин, по которым Дмитрий Донской не выступил против него в поход: «…ни подня рукы противу царя». Поэтому мы едва ли ошибемся, если признаем, что рассказ написан еще при жизни Дмитрия Донского, т. е. до 1389 г., скорее всего, каким-либо монахом, ибо автор особо отмечает гибель двух московских архимандритов и одного игумена.
Второе сказание о Тохтамышевом разорении помещено в Ермолинской летописи. Оно резко отличается от предыдущего, хотя в некоторых деталях совпадает, в особенности в датах, что заставляет думать о каких-то записях о событиях 1382 г., использованных тем и другим сказанием. Рассказав сходно с первым сказанием о начале похода Тохтамыша, автор второго сказания говорит, что Дмитрий Донской «…нача полки совокупляти и поиде с Москвы, хотя противу татар, и бысть разно в князех русских: овии хотяху, а инии не хотяху, бяху бо мнози от них на Дону избиты». Только тогда великий князь пошел в Кострому, «…а во граде Москве мятежь бе велик». Сошелся народ, зазвонили во все колокола, «…и сташа суймом, а инии по вратом, а инии на, вратех на всех, не токмо пущати хотяху из града кромолников и мятежников, но и грабяху их». Между тем татары подошли к Москве и начали спрашивать о великом князе, «…есть ли он в граде». Горожане отвечали со стен, что его в городе нет. Утром татары подступили к Кремлю и начали стрелять из луков. Москвичи отвечали тоже стрельбой из луков и бросали камни. Однако татары сбили защитников со стен и попытались взобраться на них по лестницам. Осажденные стойко оборонялись, лили на врагов кипящую воду, стреляли из «тюфяков» и пушек. Один же москвитин, суконник Адам, пустил с Фроловских ворот стрелу и убил славного ордынского князя, чем причинил великую печаль самому Тохтамышу.
Виновниками взятия города были суздальские князья, поклявшиеся, что Тохтамыш ограничится получением даров, если горожане выйдут к нему на встречу. Татары напали на крестный ход у кремлевских ворот, влезли на стены по лестницам и ворвались в город, перебили людей, «…тако же вся казны княжьския взяша, и всех людей, иже бяху со многых земль сбеглися, то все взяша». Татары разорили и другие города, в том числе Переславль, но переславцы спаслись от гибели, бежав на озеро. Рассказав о поражении татар под Волоком и возвращении Дмитрия Ивановича в Москву, сказание замечает, что за 80 погребенных трупов платили по рублю и всего издержали 300 рублей.
Как и в первом сказании, перед нами выступает человек, хорошо осведомленный о событиях, но в остальном два автора глубоко различны по своим интересам. В то время как автор первого сказания всецело вращается в церковной сфере, автор второй повести – человек светский. Уклончивая характеристика поведения Дмитрия Донского, не желавшего якобы поднять руку против царя, заменена точным указанием на рознь среди князей. В этих словах отражаются определенные факты. В 1388 г. великий князь разгневался на Владимира Андреевича Серпуховского и посадил в заточение многих его бояр. Во время набега Тохтамыша мы видим Владимира Андреевича стоящим на Волоке отдельно от великого князя, уехавшего в Кострому. Ярко рисуются перед нами и действия горожан против крамольников и мятежников, не устыдившихся самого митрополита Киприана, позорно бежавшего из города в 1382 г.
В ужасной трагедии, разыгравшейся в Москве, автор склонен винить прежде всего изменников, суздальских князей. Налицо и явное сочувствие автора к восставшему народу, брошенному большими людьми, но готовому решительно сопротивляться. Датирующим указанием служит замечание о разорении Рязанской земли московскими войсками, что было для нее хуже татарской рати. В 1385 г. Дмитрий Донской помирился с Олегом Рязанским, и в летописях уже не встречается столь резких выражений, направленных против Олега, как раньше. По-видимому, вторая повесть о Тохтамышевом разорении составлена в 1382 -1385 гг. Недаром же в нее внесено ложное указание на бегство Киприана из Москвы, ибо Киприан во время нашествия Тохтамыша находился в Твери. В 1382-1385 гг. Дмитрий был в ссоре с митрополитом, официальной виной которого было нежелание сидеть в Москве в осаде. Автора повести мы не знаем, но можем сказать, что он близок к московским горожанам, возможно, даже был горожанином.
Оба сказания о Тохтамышевом нашествии послужили материалом для новой повести о том же событии, более обширной и вошедшей в состав Воскресенской летописи и «Типографского летописца». И в той и в другой летописи помещены в основном однородные повести о Тохтамышевом разорении, впрочем отличающиеся некоторыми деталями, причем Воскресенская летопись содержит более осложненный и поздний текст, чем Типографская.
На примере последней легко наблюдать процесс создания сводной повести о Тохтамышевом разорении. Автор объединил обе ранние повести, выбросил из них кое-какие подробности и согласовал текст, прибавив от себя некоторые добавления фактического и словесного характера. Сделано это было, в общем, толково, хотя и не обошлось без ошибок. Так, первая повесть молчала о крестном ходе из городских ворот и говорила, что Тохтамыш «…оболга Остея лживыми речми» и убил его перед воротами, а вторая повесть сообщает уже о крестном ходе. Новая же редакция утверждает, что москвичи вышли из города «с князем своим», вслед за тем непоследовательно говорит, что «…князь их Остей преж того убьен бысть под градом».
В целом же надо признать, что автор новой повести обладал определенными литературными навыками. Показательно, что он, как и его предшественник, мало интересовался церковными делами и даже пропустил имя игумена, погибшего в Москве (из первой повести о разорении). Перед нами светский человек, интересы которого направлены в определенную область – в сферу борьбы московских черных и лучших людей. Впервые говорится, что граждане «сотвориша вече». Появляется мотив добрых и недобрых людей. Первые молятся со слезами богу, а недобрые люди ходят по дворам, выносят из погребов господские меды, пьют до великого пьянства и дерзко говорят: «Не устрашаемся поганых татар нахождениа, селик тверд град имуще, его же суть стены камены и врата железны». Автора удручает не столько гибель княжеской казны, сколько расхищение богатства «…сурожан, и суконников, и купцов, и всех людей». Москвич и горожанин чуется нам в плаче о разорении Москвы, который вставляет автор в свою повесть как наглядную иллюстрацию происшедшей трагедии. Был раньше чуден град, и многое множество людей было в нем, кипел богатством и славою, превзошел он все грады Русской земли честью многою, в нем князья и святители жили и по отшествии от мира сего погребались. В это же время изменилась доброта его и отошла слава его и уничтожение пришло на него; не было в нем видно ничего, но только дым и земля и много лежащих трупов, а церкви каменные огорели снаружи, выгорели и почернели внутри, полны крови христианской и мертвых трупов, и не было в них пения и звону, никто к ним не приходил, и никого не осталось в городе, но было в нем пусто. Трудно датировать новую сводную повесть, но она появилась спустя немало времени после события, может быть, в начале XV в.
Мотив недобрых людей, грабящих господские дома и похищающих сосуды, серебряные и дорогие скляницы, был еще усилен в новой редакции сводной повести о Тохтамышевом разорении, возникшей позднее и помещенной в Воскресенской летописи. Если более ранние повести говорили, что московский народ не пускал из города мятежников и крамольников, пытавшихся бежать, то редакция Воскресенской летописи уже прямо называет «народы, мятежницы, крамольницы» тех горожан, которые удерживали беглецов, стремившихся бросить родной город. Таким образом, крамольниками делаются не беглецы, а защитники Москвы.
Такая тенденция получила развитие в двух близких по содержанию сводных повестях о Тохтамышевом разорении, помещенных в Никоновской летописи. Там «…воссташа злыа человецы друг на друга и сотвориша разбои и грабежи велии». Сводная повесть возникла поздно, когда воспоминания о событиях стерлись, а московские горожане постепенно теряли свои прежние вольности. Поэтому главной причиной гибели Москвы признано несогласие среди горожан, упивавшихся вином и постыдным образом дразнивших со стен татарские полчища. Не без огорчения надо отметить, что эти поздние повести, уже исказившие действительность, наиболее известны в нашей литературе и часто цитируются, хотя относятся не к XIV, а к XV столетию.
«ХОЖДЕНИЕ ПИМЕНА» И «ПОВЕСТЬ О МИТЯЕ»
В отличие от повестей о разорении Москвы в 1382 г. «Хождение Пимена» может быть приписано определенным авторам. «И повеле митрополит Пимен Михаилу владыце Смоленскому да Сергию архимандриту Спасскому, и всякож-до, аще кто хощет, писати сего пути шествование, все, како поидоша, и где что случится, или кто возвратися, или не возвратися вспять, мы же сиа вся писахом». Автором хождения, впрочем, был не смоленский владыка и не спасский архимандрит, а Игнатий, связанный какими-то отношениями со смоленским епископом Михаилом. Это не лишает нас права считать хождение Пимена памятником московской литературы, так как Игнатий чужд каким-либо смоленским интересам и верно исполнял заказ митрополита писать «сего пути шествование». Оставшись с москвичами в Константинополе, несмотря на отъезд смоленского епископа Михаила и нового митрополита Киприана, Игнатий продолжал служить сорокоусты по душе умершего Пимена, сторонником и приближенным которого он, по-видимому, являлся.
Автор хождения тщательно отмечает события дальнего путешествия Пимена, немногословно, но красочно описывает природу донских берегов и прилегающей к ним местности.
Рязанские бояре провожали митрополита до урочища Чур-Михайлово, крайнего пункта Рязанской земли, и здесь простились с путешественниками. Дальнейшее следование по Дону казалось путникам «печальным и унылнивом», кругом не было ни сел, ни городов, все было пусто. Только встречалось много зверей и птиц: коз, лосей, волков, лисиц, выдр, медведей, бобров, орлов, гусей, лебедей, журавлей, – «…и бяше все пустыни великиа». На устье Воронежа митрополита встретил князь Юрий Елецкий со своими боярами. Дальше начинались степи, населенные татарами-кочевниками, где паслись их бесчисленные стада, «…толико множество, яко же умь превосходящь».
Язык Игнатия простой и в то же время необыкновенно образный. Автор нередко прибегал к сравнениям для того, чтобы пояснить свой текст, и эти сравнения порой сделали бы честь крупному художнику. У Тихой Сосны путники видят «столпы каменны белы» (известные меловые горы), дивно и красно стоят они рядом, точно небольшие стога, белые и светлые («…видехом столпы камены белы, дивно же и красно стоят рядом, яко стози малы, белы же и светли зело, над рекою над Сосною»). Впервые встретившиеся толпы татар показались Игнатию такими же многочисленными, «якоже лист и якоже песок». Красочно говорится о горах на малоазиатском берегу, мимо которых они проплывали: горы были высокие, и на половине их высоты неслись облака («…тамо горы высоки зело, в половину убо тех гор стирахуся облаки, преходяще по воздуху»). Без всякой лишней риторики рассказывает Игнатий и об опасном нападении на русский корабль, совершенном в Азове итальянскими кредиторами Пимена. Был великий топот на палубе, но не все знали (что случилось), мы вышли и видим великое смятение. И сказал епископ мне, Игнатию: «Что, брат, так стоишь без всякой печали?» А я сказал: «Что это такое, господин мой святой?» И он отвечал: «Это фряги из города Азова пришли», – и, взяв, сковали господина нашего, митрополита Пимена.
Чтобы написать такое произведение, каким является «Хождение Пимена», носящее все черты повести о путешествии, а не простой маршрутной справки, надо было обладать литературными навыками. В сочинении Игнатия преобладает мирская, а не церковная стихия. Автор записывает виденное, не прибегая к помощи цитат из церковных книг, как это станут делать московские писатели XV в.
Гражданский характер московской литературы XIV в. с ее реалистическим содержанием нашел свое отражение даже в таких сочинениях, которые были явно связаны с церковными темами, – имеем в виду «Повесть о Митяе». Она испытала обычную судьбу московских произведений. Ее подправили и расширили в сторону тенденциозного опорочивания неудавшегося ставленника на митрополию.
Древнейшая редакция повести, помещенная в «Рогожском летописце», написана уже во враждебном тоне по отношению к Митяю, но не заключает еще в себе каких-либо недостоверных черт. В ней говорится, что после смерти митрополита Алексея на его место по желанию великого князя был возведен архимандрит Михаил, прозванный Митяем. Еще не поставленный в митрополиты, он носил митрополичью одежду «…и все елико подобает митрополиту и елико достоить, всем тем обладаше». Митяй предлагал Дмитрию Донскому, чтобы русские епископы поставили его на митрополию без обращения к константинопольскому патриарху, что вызвало протест со стороны суздальского епископа Дионисия. Тогда Митяй поехал в Царьград, но внезапно умер на корабле в виду самого города и был погребен в Галате.
Спутники Митяя решили обманом посвятить Пимена, архимандрита переславского, и написали к патриарху от имени великого князя грамоту на чистом куске пергамента, данном на всякий случай Митяю от Дмитрия Донского и скрепленном великокняжеской печатью. Пимен был поставлен в митрополиты, но не принят великим князем, вызвавшим в Москву его соперника Киприана и отправившим Пимена в заточение в Чухлому.
Характерно, что эта ранняя повесть еще сохраняет лестную характеристику Митяя. Нареченный митрополит был из числа коломенских попов. Высокого роста, плечистый, видный на лицо («рожаист»), он отпустил большую плоскую и красивую бороду, был речист на слова, имел приятный голос, хорошо знал грамоту, умел петь и читать, говорить по-книжному, «…всеми делы поповьскими изящен и по всему нарочит бе». Замечательнее всего, что повесть о Митяе, написанная человеком, прекрасно осведомленным в церковной жизни, лишена всякого церковного налета в смысле использования библейских текстов и молитв, которыми так злоупотребляют позднейшие авторы. Точность и ясность, отсутствие риторики ярко выделяют повесть о Митяе и заставляют думать, что она возникла очень рано, может быть, в те годы, когда Киприан и Пимен все еще были соперниками на митрополию. Недаром же, говоря о ссылке Пимена на Чухлому и оттуда в Тверь, автор замечает: «…господня есть земля и конци ея», – точно хочет сказать, что для Пимена везде найдется место.
В более полном, но явно позднейшем виде «Повесть о Митяе» имеется в Никоновской летописи, где она уже носит черты редакторской правки в смысле опорочивания Пимена как соперника Киприана.
СКАЗАНИЯ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ
Московская литература с самого начала носила политический характер. Поэтому нет ничего удивительного в том, что особенно большой цикл сказаний возник в связи с Куликовской битвой 1380 г. – крупнейшим политическим событием XIV в. С. К. Шамбинаго посвятил этому циклу специальное исследование, основанное на изучении множества памятников. Однако эта ученая работа мало удовлетворяет современного читателя. Занятый главным образом изучением формы и сходства литературных образов, С. К. Шамбинаго уделил мало места вопросу о том, когда и где возникли сказания о Мамаевом побоище. Он разделил все сказания о Куликовской битве, или Мамаевом побоище, на следующие группы: 1) летописную повесть о Мамаевом побоище, созданную в конце XIV в. по образцу повести об Александре Невском; 2) «Задонщину» (называемую автором «Поведанием»), которая была написана в начале XV в. рязанским иереем Софонием; 3) первую редакцию сказания (в Никоновской летописи), составленную после 1425 г. и дошедшую до нас в обработке XVI в., вторую редакцию сказания (в Вологодско-Пермской летописи) конца XVI в., третью редакцию сказания, развивавшуюся с XVI в., наконец, четвертую редакцию сказания начала второй половины XVII столетия.
Таковы, скажем прямо, плачевные для историка результаты исследования. С. К. Шамбинаго ищет риторические наращивания и легендарные подробности, не желая ответить на вопрос, каким образом имена и названия местностей конца XIV в. могли внезапно появиться под рукой редакторов XVI-XVII вв. А насколько поспешны выводы автора, видно из того, что вторую редакцию сказания он преспокойно относит к концу XVI в., тогда как самая Вологодско-Пермская летопись, где помещена эта редакция, возникла в середине XVI в. и известна нам в списках второй половины XVI в. Выходит, что сказание моложе той летописи, куда оно внесено в готовом виде: другими словами, писцы переписали сказание за 20-30 лет до его возникновения.
Неудивительно, что результаты исследования С. К. Шамбинаго были подвергнуты серьезной критике. А. А. Шахматов пришел к мысли, что летописная повесть о Мамаевом побоище была составлена через год-два после Куликовской битвы, хотя и не дошла до нас в первоначальной редакции. Тогда же возникла официальная реляция о походе великого князя. Одновременно при дворе Владимира Андреевича Серпуховского появилось описание битвы, прославлявшее Владимира и двух Ольгердовичей, близкое по стилю к «Слову о полку Игореве». В начале XV в. на основе этого «Слова о Мамаевом побоище» и «Слова о полку Игореве» возникла «Задонщина». В начале XVI в. для митрополичьего летописного свода составляется «Сказание о Мамаевом побоище». Сказание, которое не дошло до нас в чистом виде, восстанавливается путем сравнения трех его первых редакций.
Не все ясно в схеме А. А. Шахматова, но она начерчивает путь, которому последуют будущие работы, ибо близость трех редакций «Сказания о Мамаевом побоище» очевидна, а подробности о великой битве так многочисленны и жизненны, что их нельзя объяснить риторическими отступлениями и выдумками, поэтому надо предполагать существование письменных записей о Куликовской битве.
В задачу этой работы не входит изучение литературной судьбы редакций сказания и их взаимоотношений, но для нас драгоценны те подлинные черты московской литературы XIV в., которые сохранились в этих сказаниях и еще различимы под пластами позднейшего времени. С этой точки зрения мы и будем рассматривать произведения, посвященные Мамаеву побоищу, прежде всего «Задонщину».
«ЗАДОНЩИНА»
Внимание историков литературы давно было обращено на «Задонщину», и тем не менее нельзя сказать, чтобы итоги изучения ее были вполне удовлетворительными. Большинство исследователей интересовались вопросом о подражательности этого памятника, связанного со «Словом о полку Игореве». С. К. Шамбинаго так и пишет: «Это произведение, носившее обычные названия Слова или Сказания, но получившее потом название Поведания, было написано в подражание «Слову о полку Игореве», с сохранением не только его образов и выражений, но и плана». Происхождение «Задонщины» соотносится им с авторством Софония, иерея, рязанца, названного в одном списке брянским боярином. В книге С. К. Шамбинаго изображается приезд южного уроженца в Рязань, куда привозится рукопись «Слова о полку Игореве», а может быть, целая библиотека. У Н. К. Гудзия автором «Задонщины» является также брянский боярин, «…видимо, приверженец Дмитрия Брянского, участника коалиции против Мамая, а потом рязанский священник». «Задонщине» посвящен и новый труд на французском языке А. Мазона, который восхваляет ее с целью доказать, что она была источником «Слова о полку Игореве», рассматриваемого А. Мазоном как подложное произведение, составленное в конце XVIII в.
В настоящее время вопрос о происхождении «Задонщины» все более привлекает к себе исследователей, тем более что найден еще новый список этого сочинения. Лично мне он был известен давно по работе над летописцами Государственного Исторического музея. Новый список «Задонщины» включен в состав Новгородской 4-й летописи типа списка Дубровского (рукопись музейского собрания № 2060). Значение нового списка понятно само собой, если принять во внимание, что из известных списков этого произведения два относятся к XVII в., один (неполный) – к XV в. Наш список середины XVI в. самый полный и исправный, в основном сходный со списком Ундольского.
Текст «Задонщины» вставлен в летописный рассказ о Куликовской битве. Поэтому он и оставался малоизвестным. В начале говорится: «В лето 6887. Похвала великому князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Владимеру Ондреевичю, внегда победиша пособьем божиим поганаго Мамая со всеми его силами». После этого следует текст летописной повести «о нахождении Мамая», прерывающийся на повествовании о посылке Дмитрием Донским за князем Владимиром Андреевичем и воеводами. Тут начинается «Задонщина»: «И потом списах жалость и похвалу великому князю Дмитрию Ивановичю и брату его князю Владимеру Ондреевичю. Снидемся, братие и друзи, сынове рустии, съставим слово к слову и величим землю Рускую…»
А. Д. Седельников написал интересную статью, в которой связывает «Задонщину» с псковской письменностью, но доказательства его шатки и стоят далеко от самого текста «Задонщины». А между тем ряд штрихов, разбросанных в «Задонщине», говорят о том, что автор писал ее в годы, близкие к Куликовской битве. Он был прекрасно осведомлен о жизни высших московских кругов. Так, в слове появляются московские «болярыни», жены погибших воевод: жена Микулы Васильевича – Марья, жена Дмитрия Всеволожского – тоже Марья, Федосья – жена Тимофея Валуевича, Марья – Андрея Серкизовича, Оксенья (или, по списку Ундольского, Анисья) – жена Михаила Андреевича Бренка. Надо предполагать хорошую осведомленность автора в московских делах, чтобы объяснить появление списка боярских жен, интересного и понятного только для современников. Конечно, не позднейшему автору принадлежат и такие слова, описывающие грозную русскую рать: «Имеем под собою борзыя комони, а на себе золоченыя доспехы, а шеломы черкасьские, а щиты московскые, а сулицы ординские, а чары франьския, мечи булатныя». «Сильный», «славный», «каменный» город Москва, быстрая река Москва стоят в центре внимания автора.
Нашим выводам как будто противоречит указание на Софония Рязанца как на автора сказания. Но уже С. К. Шамбинаго отмечал, что в тексте «Задонщины» иерей-рязанец Софоний (в нашем списке Ефонья) упоминается в третьем лице, словно автор какого-то другого произведения, в новом списке же о нем говорится так: «И яж помяну Ефонья, ерея рязанца, в похвалу песньми и гуслеными и буяни словесы». Соображения историков литературы о происхождении Софония ничего не меняют в московском характере произведения. Ведь во всех русских городах прозвища «рязанец», «володимерец» и т. д. давались тем людям, которые осели в чужом городе. Москвич не писал себя москвитином в Москве, а звал себя так в другом месте. Поэтому прозвище Рязанец нисколько не противоречит тому, что Софоний был москвичом, если только имя его не было надписано на «Слове о полку Игореве», которым воспользовался автор «Задонщины», приписав ему составление этого произведения (а также взяв оттуда гусленые и буяные словеса).
Для нас важен прежде всего вопрос: когда была написана «Задонщина»? Историки литературы отвечают на это общими словами о составлении произведения в начале XV в., тогда как в тексте памятника мы имеем довольно точное датирующее указание. В сводном тексте С. К. Шамбинаго интересующий нас отрывок, переставленный им на другое место, звучит так: «Шибла слава к морю, чу, и к Кафе, и ко Царю граду, что Русь поганых одолеша». Приведенная фраза отсутствует в Кирилло-Белозерском списке, а в списке Ундольского читается в неисправном, но существенно ином виде, чем приводит ее С. К. Шамбинаго. В нем находим слова: «А слава шибла к Железным вратам, к Караначи, к Риму, и к Сафе, по морю, и к Которнову, и оттоле к Царюграду».
Правильно восстановив чтение «к Кафе» вместо «к Сафе», С. К. Шамбинаго выбросил из текста малопонятные слова «к Которнову», а в них-то и заключаются важные датирующие указания. Действительно, в Музейском списке читаем: «Шибла слава к Железным вратом, к Риму и к Кафе по морю и к Торнаву и оттоле к Царюграду на похвалу: Русь великая одолеша Мамая на поле Куликове» (Л. 219 об). Эти слова в совсем испорченном виде читаются в Синодальном списке: «Шибла слава к морю и (к) Ворнавичом, и к Железным вратом, ко Кафе и к турком и ко Цару-граду».
Легко заметить, что фраза о славе менялась при переписке, и некоторые названия становились непонятными. Непонятное в списке Ундольского – «Караначи» (в Синодальном – «к Ворнавичом») обозначает «к Орначу», под которым надо понимать Ургенч в Средней Азии. Железные ворота – это, скорее всего, Дербент, но что значит Которному? Музейский список дает понять текст списка Ундольского: надо читать «ко Торнову» (в Музейском списке – «к Торнаву»). Под таким названием нельзя видеть иной город, кроме Тырново, столицы Болгарии. Известно, что последнее Болгарское царство было завоевано турками в 1393 г., когда пал и Тырнов. Значит, первоначальный текст «Задонщины» составлен не позднее этого года.
Наш вывод можно подтвердить и другим соображением. В полных списках «Задонщины» показано от Калатския рати до Мамаева побоища 160 лет. Нет никакого сомнения, что «Задонщина» имеет в виду битву на Калке, с которой была спутана битва на Каяле, прославленная в «Слове о полку Игореве». Битва на Калке произошла, по нашим летописям, в 6731 г. (Лаврентьевская) или 6732 г. (Ипатьевская). В московских летописях обычно принимали вторую дату (см. Троицкую, Львовскую и др.). Прибавим 160 лет к 6732 г., получим 6892 г., что равняется в переводе на наше летосчисление 1384 г. Между тем в летописях 6888 г. постоянно указывается как дата Куликовской битвы. Конечно, можно предполагать ошибку в исчислении времени, но ничто не мешает нам видеть в этом и определенный датирующий признак, относящий составление памятника к 1384 г.
«Задонщина» впитала в себя многие черты московской жизни XIV в. Поэтому в ней Северо-Восточная Русь носит название Залесской земли, как и в других памятниках того времени. Москва величается «славным градом», река Москва – «быстрой», «меды – наши сладкие московские», щиты – «московские». Особый подражательный характер «Задонщины» и ее небольшие размеры не дали ее автору возможности широко развернуть московские мотивы, но и без того «Задонщина» может считаться памятником московской литературы по преимуществу, каково бы ни было происхождение автора.
«СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ»
«Задонщина» как поэтическая повесть была распространена мало. Несравненно большее распространение получили списки особого «Сказания о Мамаевом побоище», разделенные С. К. Шамбинаго на четыре редакции. Сказания эти сложного состава и предполагают какую-то общую основу, так как последовательное происхождение редакций не доказано С. К. Шамбинаго. Общее впечатление от сказаний неблагоприятное: они кажутся громоздкими и неясными. Множество недомолвок и ошибок, длинных и нескладных вставок из церковных книг в виде текстов и молитв испещряют повествование. Имеются и прямые искажения действительных событий. Например, явным подлогом являются беседы митрополита Киприана с Дмитрием Донским, так как известно, что Киприан не имел прямого касательства к Куликовской битве.
И тем не менее за всеми особенностями различных редакций о Мамаевом побоище в них обнаруживаются черты, восходящие к какому-то древнему тексту, близкому ко времени Дмитрия Донского и Куликовской битвы.
Видя в тех списках сказаний, где появляются какие-либо новые дополнения о Куликовской битве, только риторические распространения и заимствования из устной традиции, С. К. Шамбинаго считает более древними тексты, помещенные в Никоновской и Вологодско-Пермской летописях. Поэтому внимание исследователя едва привлекает Уваровский список сказания третьей редакции, хотя этот список украшен цитатами из народной поэзии, сохраняющими даже песенный склад. Не вызывает у него интерес и сборник Соколова XVII в., несмотря на то, что он отклоняется от общей схемы. Между тем в этом списке читаем слова: «…земля стонет необычно в Цареграде и в Галади, и в Кафе, и в Белеграде». Исследователь все время занят мыслью доказать позднее происхождение редакций сказаний о Мамаевом побоище, что заставляет его отказываться от возможности найти в их основе древнее повествование. Возникает вопрос, кто и когда мог написать о Царьграде, Кафе, Галате и Белграде с таким знанием дела. Уже в XVI а Галата и Кафа не имели того большого значения, как раньше. Было же время, когда Галата являлась конечной целью для поездок московских купцов, а Кафа и Белград (Аккерман) служили для них промежуточными пунктами. И это было не позже первой половины XV в. Как же такие подробности могли принадлежать редактору, жившему в XVII в.?
Очевидна древняя основа сказаний о Мамаевом побоище не в риторических, а в подлинно исторических деталях. Для доказательства этой мысли я воспользуюсь как текстами, опубликованными С. К. Шамбинаго, так и текстом Забелинской рукописи № 261, часть которой под названием «Новгородского хронографа» была мною издана в «Новгородском историческом сборнике». Несмотря на позднее происхождение текста сказания в «Новгородском хронографе», он содержит важные данные для заключения о древнем источнике.
В нынешнем виде «Сказание о Мамаевом побоище», помещенное в «Новгородском хронографе», представляет собой сводный текст. Он начинается летописной повестью о побоище, имеющейся в Новгородской 4-й летописи. После слов «…совокупитися со всеми князи русскими и со всеми силами» следует текст «Сказания о Мамаевом побоище», начинающийся так: «В то же время слышав же князь Олго Рязанский, яко царь Мамай качует на реке на Вороножи на броду».
Сводное сказание в основном примыкает к «Сказанию о Мамаевом побоище», помещенному в Никоновской летописи, но он полнее последнего и имеет все черты текста, составленного на основании, по крайней мере, двух источников, причем объединенных весьма небрежно.
В нашу задачу вовсе не входит выяснение происхождения сводного текста. Нам важно доказать другое: что сводный текст сохранил некоторые древние черты, восходящие по происхождению к очень раннему времени, и что эти черты нельзя объяснить позднейшими вставками, распространениями текста и т. д. Иными словами, основа сказаний о Мамаевом побоище гораздо более древняя, чем кажется С. К. Шамбинаго и некоторым другим исследователям, и, скажем прямо, гораздо более интересная и свежая по сравнению с позднейшими текстами. Заметно, что сводный текст явно соединял разные источники, которые различаются между собой и своим стилем. Одним из них был рассказ, изобилующий подробностями, записанными еще во времена, близкие к Куликовской битве, когда не успела заглохнуть устная традиция.
Для подтверждения нашей мысли ограничимся несколькими справками. Например, в сказании так называемой третьей редакции (по С. К. Шамбинаго) говорится о посылке в степь навстречу татарам Родивона Ржевского, Андрея Волосатого, Василия Тупика, Якова Ослебятева «…и иных с ними крепкых юнош». Между тем С. К. Шамбинаго весьма недоумевает по поводу слов «Задонщины», вложенных в уста Осляби: «…пасти главе твоей на сырую землю, на белую ковылу, а чаду твоему Иакову лежати на траве ковыле». Упоминание о посылке отряда имеется и в сводном тексте, с добавлением: «70 человек». Реальность имен перечисленных юношей доказывается наличием среди них Якова Ослебятева, так как боярин Родион Ослябя известен по летописи. Не поняв текст, С. К. Шамбинаго заменил слово «чаду» и поставил здесь «брату», так как слово «чаду» лишено смысла. Но в Музейском списке «Задонщины» читаем: «…уже голове твоей летети на траву ковыль, а чаду моему Якову на ковыле земли не лежати». И это вполне понятно в устах Осляби по отношению к его «чаду» (сыну) – Якову Ослебятеву.
В третьей редакции сказания мы находим и следующую любопытную поправку, показывающую, как изменялся и становился непонятным более ранний текст. В частности, речь идет о движении Мамая: «…не спешит бо царь того ради итти – осени ожидает». В сводном тексте читаем обратное: «…спешит царь – осени требует». Стало быть, имеется в виду дань («осень»), которую требует царь.
Замечательное указание на отдельные черты большей древности некоторых текстов сводного сказания находим в списке гостей-сурожан, взятых Дмитрием Донским в поход против татар. В сводном тексте видим следующие имена: «Василия Капию, Сидора Олуферьева, Константина Петунова, Козму Ховрина, Онтона Верблюзина, Михаила Са-ларева, Тимофея Везякова, Дмитрия Чермного, Дементия Саларева». Нас привлекает прежде всего имя Козмы Ховрина как родоначальника Ховриных, происхождение которых от богатых гостей – крымских выходцев – куда более вероятно, чем родственно древо от некоего князя Стефана и Крыма. В других же списках здесь читаем малопонятное: Коврю (Ковырю) и т. д. На месте Семена Онтонов находим Онтона Верблюзина. Что это – не ошибка, а более древняя традиция, – свидетельствует следующая справка. Житие Сергия знает гостя Семена Онтонова, родившегося по предсказанию игумена Сергия. Онтонов говорил о Сергии, что игумен «…любовь и благодетельство име к родителем моим». Семен Онтонов жил и действовал в первой четверти XV в., спустя 30-40 ле после Куликовской битвы, а Онтон Верблюзин – его отец. Последующие переделки вставили Семена Онтонова на место Онтона Верблюзина, так как первый был известен по житию Сергия. Поздний текст «Новгородского хронографа» как видим, сохраняет раннюю традицию.
В сказании так называемой третьей редакции читаем о двух братьях Ольгердовичах, ненавидимых отцом «мачехи ради». В сводном тексте обнаруживаем иное: «…отцем ненавидими бяше обое, ноипаче боголюбивы, вместе бо крещение прияли есте от мачехи своея от княгини Анны». Речь идет о реальном лице. Анна Святославовна была женой Ольгерда и христианкой. Обычный мотив злой мачехи вытеснил обратный факт – согласия мачехи с взрослыми пасынками.
Полное непонимание первоначального текста в редакциях, известных С. К. Шамбинаго, наблюдаем и далее. Один из Ольгердовичей говорит в сводном сказании: «Приидоша ко мне вестницы от Северки, ту бо хощет князь великий Дмитрей Иванович ждати безбожного царя Мамая». Известно, что река Северка, впадающая в Москву справа, служила местом, где русские войска не раз встречали татар. В изданных редакциях и отчасти в самом «Новгородском хронографе» появляется уже Северская земля (Северы), т. е. Черниговщина, что делает текст почти бессмысленным.
Приведенные примеры, может быть позволяют более тщательно отнестись к показаниям сводного сказания и других поздних текстов и не видеть в них только риторические украшения. Тексты сказания согласно изображают достойное поведение Дмитрия Донского на поле битвы. Его долго не могли найти после боя, обнаружили «…бита велми, едва точию дышуща под новосеченым древом, под ветми лежаще, аки мрътв». В поисках Дмитрия участвовали (по Никоновской летописи) Федор Зернов или Морозов и Федор Холопов, «бяху же сии от простых суще». В сказании третьей редакции названы Федор Сабур и Григорий Холопищев, «оба родом костромичи».
В сводном тексте содержится описание того же эпизода, сильно отличающееся в деталях от вышеприведенного. Когда Владимир Андреевич стал спрашивать, не видел ли кто великого князя, нашлись три «самовидца». Первый был Юрка-сапожник, сказавший, что видел, как великий князь сражался железной палицей, вторым был Васюк Сухоборец, третьим – Сенька Быков, четвертым – Гридя Хрулец. Перед нами имена безвестных героев Куликовской битвы, в их числе ремесленник-сапожник. Нельзя лучше представить себе всенародность ополчения, бившегося на Куликовом поле, чем назвав эти имена.
Почему же они выпали у позднейших авторов? Потому что имена их ничего не говорили и, может быть, даже казались малопристойными чопорным московским книжникам. Поэтому пятый «самовидец», о котором в «Новгородском хронографе» сказано: «…у князя Юрья некто есть имянем Степан Новосельцев», – стал в третьей редакции сказания князем Стефаном Новосильским, тогда как вторая редакция говорит о нем еще просто: «Юрьевской же уноша некто Степан Новосилской». Так терялась первоначальная действительная основа событий под пером позднейших редакторов.
Историк не может пройти мимо и другого интересного факта. Современные тексты сказаний в его различных редакциях носят на себе черты, по крайней мере, трех разнородных повествований. В них вошли:
1) прозаический рассказ о Куликовской битве;
2) поэтическое произведение о Донском побоище;
3) риторическое повествование о переговорах Олега и Ягайла с Мамаем и вставки из церковных книг.
В мою задачу не входит рассмотрение этих отдельных частей, являющееся делом историков литературы. Гораздо важнее отметить, что риторические украшения сказания и их церковный характер представляют самый поздний пласт, наслоившийся на текст сказания; пласт, в котором имеются уже явные искажения и выдумки, подобно рассказу об участии митрополита Киприана в подготовке борьбы с Мамаем. Подлинные исторические черты, порой искаженные нашими списками, содержат только первые два слоя сказания, они и есть древнейшие. Наш вывод, впрочем, не заключает ничего особенно нового. Он только примыкает к выводам А. А. Шахматова о существовании официальной реляции о походе Дмитрия Донского и поэтического описания битвы, родственного со «Словом о полку Игореве».
С. К. Шамбинаго считал поэтические места сказания о Мамаевом побоище заимствованными из «Задонщины», но не обратил внимания на то, что в этих предполагаемых заимствованиях в сказании мы не найдем сходства с текстами «Слова о полку Игореве». А ведь нельзя предполагать, что составитель сказания выбрал из «Задонщины» только то, что не было заимствовано из «Слова». Однако указанный факт будет нам понятен, если признать, что и «Задонщина» и сказание черпали из одного общего источника – того поэтического описания, которое, по мнению А. А. Шахматова, было составлено вскоре после события. Оно отличалось необыкновенной красотой и стояло вне зависимости от «Слова о полку Игореве». Приведем два-три отрывка из «Задонщины» в переводе на современный язык. Вот перед нами русские полки изготовились к бою. Время ведреное и ревут стяги, наволоченные золотом, и простираются хоботы их, как облака тихо трепещут, точно хотят промолвить. Богатыри русские, как живые хоругви, колеблются; доспехи русских сынов, как вода всебыстрая колебалася, а шеломы их на головах, как утиные головы, (как) роса во время ведра светилися, еловцы же шеломов, как пламя огненное горит.
Возьмем и другое описание из того же сказания, стоящее вне связи со «Словом о полку Игореве»: «А уж соколы, белозерские ястребы рвались от златых колодок, ис каменного града Москвы, возлетели под синие небеса, возгремели золочеными колокольчиками на быстром Доне».
Остатки этой поистине высокой поэзии дошли до нас и в прозаических текстах сказаний о Мамаевом побоище. Дмитрий Иванович и воевода Волынец вышли ночью в поле и увидели такую картину: слышали они стук великий и клич, точно гром гремит, трубы многие гласят, а позади их точно волки грозно воют, великая была гроза, необычная, а на правой стороне вороны кричали, слышались великие голоса птичьи… По реке же Непрядве точно гуси и лебеди крыльями плескали необычно, грозу возвещая.
Позднейшие наслоения церковного характера исказили первоначальный памятник московской поэзии XIV в., и только под верхними слоями мы различаем его жизнерадостную и светлую основу, гражданский, светский характер, типичный для московской литературы времен Дмитрия Донского.
Конечно, развитие московской литературы продолжалось и в XV в., но она приобретает уже существенно иной характер, чем раньше. Московские произведения XV в. все более уснащаются выписками из церковных книг и благочестивыми рассуждениями. Объяснение этому явлению найдем в бурных событиях первой половины XV в., поглощавших все силы и внимание московских князей, а также и в том, что на место русских, подобных Алексею, Михаилу (Митяю) и Пимену, на московской митрополии воссели чужеземцы – Киприан и Фотий, люди образованные, но чуждые русской стихии. Особенно печальным для московской литературы было влияние литературных вкусов Киприана, ловкого и бесчестного интригана, напрасно возведенного в ранг реформатора русской письменности историками древнерусской литературы. Особой бездарностью в повестях о Мамаевом побоище и Тохтамышевой рати отличаются как раз тексты, где появляется имя Киприана как участника событий.